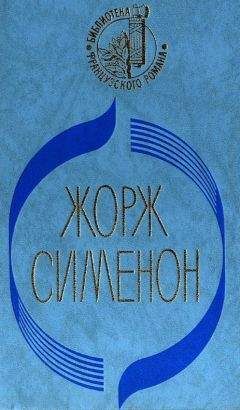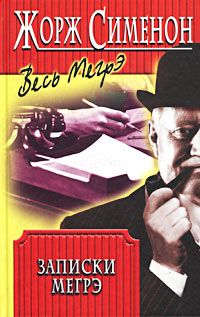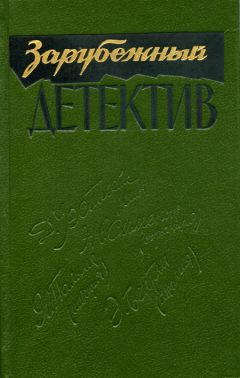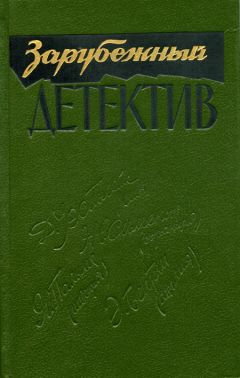Жорж Сименон - Три комнаты на Манхаттане
На улице и во всем городе ярко светило солнце, и она понимала, что ему нужно вернуться в реальную жизнь. Это было необходимо для него, для них.
— Ты сейчас переоденешься. Я тебе сама выберу костюм.
А он хотел бы столько сказать ей в связи с ее признанием! Почему она ему это не позволяет? Она же деловито, по-хозяйски хлопотала, как у себя дома, и даже казалась способной напевать. Это была их песня, но исполняла она ее на сей раз так, как никогда прежде: очень серьезно, прочувствованно и при этом совсем легко и непринужденно. Казалось, это не банальный шлягер, своего рода квинтэссенция всего того, что они только что пережили.
Она рылась в шкафу, где висели его костюмы, и рассуждала вслух:
— Нет, мой господин. Серый сегодня не подойдет. И бежевый тоже. К тому же бежевый цвет вам не к лицу, что бы вы ни думали на этот счет. Вы не брюнет и не достаточно светлый блондин, чтобы вам был к лицу бежевый цвет.
И вдруг она добавила со смехом:
— А какого цвета твои волосы? Представь себе, я никогда их не разглядывала. Вот глаза твои я хорошо знаю. Они меняют цвет в зависимости от твоих мыслей. Прошлый раз, когда ты подходил ко мне с видом покорившейся жертвы или, скорее, не совсем покорившейся, они были грубого темно-серого цвета, каким окрашивается бушующее море, когда оно укачивает пассажиров. Я даже засомневалась, способен ли ты будешь осилить то совсем уже небольшое расстояние, которое тебе осталось преодолеть, или же я буду вынуждена идти тебе навстречу.
Ну вот, Франсуа! Слушай меня, мой господин! Смотри! Темно-синий. Я убеждена, что в темно-синем костюме ты будешь великолепен.
Он испытывал желание остаться, никуда не уходить, и в то же время у него не хватило мужества противиться ей.
Почему-то он подумал в очередной раз: «Она ведь даже не красива».
И он сердился на себя за то, что не сказал ей, что он тоже ее любит.
А может быть, он просто не был в этом уверен? Он в ней явно нуждался.
Он испытывал отчаянный страх потерять ее и снова погрузиться в одиночество. Ну а то, в чем она ему только что призналась…
Он за это был ей очень признателен и вместе с тем сердился на нее. Он думал: «Мог быть и не я, а кто-то другой».
Тогда снисходительно и благосклонно он отдался ее заботам, позволил, чтобы она его одевала, как ребенка.
Он знал, что она не хотела больше, чтобы они произносили в это утро серьезные слова, полные глубокого смысла. Он понимал, что теперь она вошла в роль, которую трудно было бы выдержать без любви.
— Готова держать пари, господин Франсуа, что обычно с этим костюмом вы носите галстук-бабочку. И чтобы это было совсем по-французски, я вам сейчас подберу синий в мелкий белый горошек.
Как было не улыбнуться, коль скоро она оказалась права? Он чуть досадовал на себя, что позволял так с собой обращаться. Он боялся выглядеть смешным.
— Белый платочек в нагрудном кармане, ведь так? Чуть помятый, чтобы не походить на манекен с витрины. Скажите, пожалуйста, где у вас платки?
Все это было глупой игрой. И они оба смеялись, разыгрывали комедии, а в глазах у них стояли слезы, и они пытались это скрыть друг от друга, чтобы не расчувствоваться.
— Я совершенно уверена, что тебе нужно повидать разных людей. Да, да!
И не пытайся лгать. Я хочу, чтобы ты пошел и встретился с ними.
— Радио… — начал он.
— Ну, вот видишь, ты сейчас пойдешь на радио. Возвращайся когда захочешь, я буду тебя ждать.
Она чувствовала, что он боится, и, ясно понимая его состояние, не удовлетворилась словесным обещанием и, схватив его за руку выше локтя, сильно сжала ее.
— Ну, пора, Франсуа, hinaus![1]
Она употребила слово из языка, на котором начинала говорить.
— Итак, идите, мой господин. По возвращении не ждите особо роскошного обеда.
Оба одновременно подумали о ресторане Фуке, но постарались скрыть свою мысль.
— Надень пальто. Вот это… Черную шляпу. Да, да…
Она стала подталкивать его к выходу. У нее еще не было времени заняться своим туалетом.
Ей не терпелось скорее остаться одной, он это понимал, но не знал, стоило ли из-за этого сердиться или, напротив, быть ей признательным.
— Я тебе даю два часа, скажем, три, — бросила она ему вслед, когда он закрывал за собой дверь.
Но была вынуждена вновь ее открыть. Он увидел, что она немного побледнела и была явно смущена.
— Франсуа!
Он поднялся на несколько ступенек.
— Извини меня, что я тебя прошу об этом. Можешь ли ты оставить несколько долларов, чтобы купить что-нибудь к обеду?
Он об этом не подумал. Его лицо покраснело. Ему все это было так непривычно, и тем более здесь, в коридоре, около лестничных перил, как раз напротив двери, на ко горой зеленой краской были намалеваны буквы Ж.
К. С.
Ему казалось, что он никогда в жизни не был таким неловким, пока искал свой бумажник, потом деньги, и не хотел, чтобы она подумала, что он их пересчитывает, — ему ведь было все равно. И покраснел еще сильнее, когда протянул ей несколько долларовых бумажек, не вглядываясь в их достоинство.
— Прошу прощения.
Он все понимал, все чувствовал. И от этого у него перехватывало горло. Ему так хотелось бы вернуться назад в комнату вместе с ней и не сдерживать больше своих эмоций. Но он не осмеливался это сделать, и прежде всего из-за этого вопроса о деньгах.
— Ты не будешь возражать, если я куплю пару чулок?
Ему теперь стало ясно, что она делает это нарочно, так как хочет вернуть ему веру в себя, вернуть ему роль мужчины.
— Извини меня, я об этом не подумал.
— Знаешь, мне, может быть, все-таки рано или поздно удастся заполучить мои чемоданы…
Она продолжала улыбаться. Было совершенно необходимо, чтобы все это делалось с улыбкой, с той особой улыбкой, которая стала откровением их сегодняшнего утра.
— Я не буду расточительной.
Он посмотрел на нее. Она так и оставалась без косметики, не беспокоясь о том, как выглядит в этом мужском халате и шлепанцах, которые она должна все время волочить по полу, чтобы они не свалились.
Он стал на две ступеньки ниже нее.
Он поднялся на эти ступеньки.
И здесь, в коридоре, перед безликими дверьми, на ничейной территории, они впервые в этот день всерьез поцеловались. Это был, может быть, вообще их первый настоящий любовный поцелуй; они оба сознавали, что в него вместилось столько всего, и целовались медленно, долго, нежно, казалось, не хотели, чтобы он когда-нибудь кончился. Только звук отпираемой где-то двери разъединил их губы.
Тогда она сказала просто:
— Иди.
И он стал спускаться, чувствуя себя совсем другим человеком.
Глава 5
Через Ложье, французского драматурга, который жил в Нью-Йорке уже больше двух лет, ему удалось получить несколько передач на радио. Он также исполнял роль француза в одной комедии на Бродвее, но пьеса, которую поначалу опробовали в Бостоне, продержалась всего три недели.