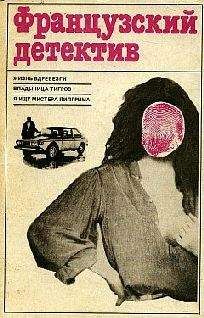Буало-Нарсежак - Человек-шарада
Я застал Гобри курящим длинную трубку, лежа на железной кровати. Его захламленная и грязная мастерская смахивала на лавку старьевщика. Повсюду валялись начатые и незавершенные холсты. Пол был не мыт и заляпан краской. Стопка грязных тарелок скопилась в углу. Я освободил себе стул.
— Не помешал? — спросил я.
Отекшие глаза Гобри, багровый цвет лица доказывали мне, что он уже наполовину пьян. Я заметил на столе бутылку. Стакана не было — возможно, он пил прямо из горлышка.
— Волен я делать что хочу или нет? — проворчал он. — Вас послал ко мне профессор?.. Наверное, ему хочется узнать, что она выделывает, его рука?.. Можете ему доложить: она ни на что не годна… Ни на что… Никогда еще не видывал подобной руки; она швыряет на пол все, чего касается.
— Ну а как… ваша работа?
— Моя работа?
Он расхохотался — да так, что вся кровать заскрипела, потом, напрягшись, умудрился сесть.
— Моя работа, — повторил он. — Вы ее видите. Вот она… Например, это небольшое полотно рядом с вами… да, у ножек мольберта… что, по-вашему, это такое?
Я увидел красные пятна, коричневатые — как будто бы полотно обрызгали кровью.
— Это улица Ив! — вскричал он и согнулся вдвое от душившего его смеха, а потом объяснил, утирая глаза от навернувшихся слез. — Да, это моя новая манера, мой «красный период».
Он указал на бутылку.
— Если душа лежит… Настоящее «Old Crow» [8].
— Вам бы не следовало… — начал было я.
— Что-что? Мне бы не следовало… А вы смогли бы удержаться, если бы у вас руки тряслись? Да смотрите, черт побери, смотрите же!
Он подошел к мольберту, схватил кисть.
— Вы видите… Я пытаюсь двигаться прямо, нарисовать прямую черту… А похоже, что я фиксирую землетрясение… Нет, дело в том, что мне приклеили руку чернорабочего! Она хороша только для работы отбойным молотком, но держать кисть художника — об этом нечего и думать. Совершенно не способна провести прямую черту. Можно подумать, это сделано нарочно…
— Начните сначала, — попросил я. — Но не препятствуя произвольным движениям руки.
— Думаете, она меня слушается?!
Он попытался провести вертикальную линию, а получились три неровные волнистые черточки. Гобри запустил кистью через всю мастерскую.
— Я и прежде, — сказал он, — не считался большим мастером. Но в конце концов, на то, что я рисовал, вполне можно было смотреть. Теперь же…
— А правой?
— А ну-ка, попробуйте сами писать левой рукой!
— Может, вы слишком торопитесь? На то, чтобы переподготовить руку, требуется время.
Закатав резким движением рукав, он обнажил мускулистое и волосатое предплечье.
— Неужто вы, господин Гаррик, и вправду верите, что этой лапище дано чувствовать живопись?.. Это равносильно тому, чтобы требовать от боксера умения плести кружева.
Я внимательно рассматривал кривые линии, нанесенные им на полотно. Они были выразительными, а вовсе не неуверенными или дрожащими, как утверждал Гобри.
— А знаете, что изображает эта кривая? — спросил я. — Женский силуэт… Вот изгиб плеча… вот изгиб бедра… Выпуклость икры… Пропорции соблюдены…
— Вы не лишены воображения.
— А может, у вас его не хватает?.. Гобри, поговорим серьезно… я помню все, что вы мне рассказывали в клинике. Про художника, которому завидуете, не так ли?.. Которому хотели бы подражать?.. Бернар Бюффе, кажется?
— Нет… Карзу.
— Ладно. Допустим!… У вас стойкое пристрастие к острым углам, ломаным линиям. Вот в чем ваша ошибка. А почему бы вам не решать свои сюжеты с помощью закругленных, мягких, женственных линий? Начните с обнаженной натуры, чтобы набить себе руку. А затем придете к своего рода антикубизму.
— Моя рука годится на то, чтобы лапать, если я правильно понял, — захихикал Гобри.
С минуту я чувствовал смущение, воображая, как рука Гобри ласкает Режину. Было ли это бедро Режины — линия, которую его рука бессознательно очертила на полотне? Я отбросил эту чудовищную мысль, потому что прекрасно знал: моя теория ничего не стоит и Гобри суждено остаться неудачником. Но его нужно было спасти от депрессии, дать ему хоть маленький повод для надежды.
— Владельцы нескольких выставочных залов — мои знакомые. Если вы будете упорно работать, найдете подходящий для себя жанр, доверяя пересаженной руке, а не презирая ее, я им порекомендую вас.
Гобри слушал, но, судя по лицу, упорно продолжал думать свое.
— Есть, начальник… Слушаюсь, начальник, — отвергал он и, пытаясь отвесить низкий поклон, едва не потерял равновесие.
Мне хотелось дать ему по физиономии. Я схватил его за грудки.
— Послушайте, Гобри. Все остальные перенесли трансплантацию более или менее сносно. Вы — единственный, кто все время ворчит. Так что переборите себя. Неужто вы не понимаете, что через полгода прославитесь, вопреки самому себе, когда правда станет общеизвестной! И вы должны быть к этому готовы. На вашем месте я работал бы денно и нощно.
Я отпустил Гобри и пошел к раковине вылить остатки виски. Перед уходом у меня создалось впечатление, что я сумел-таки задеть его за живое.
Погода была хорошая. Договорившись с начальством, я получил три дня отдыха и удрал в Сен-Серван, где круглый год снимал домик на берегу Ранса. Приведя свои записи в порядок, я долго размышлял над происшедшим, гуляя по пляжам в устье реки. Не стану вдаваться в подробности моих раздумий, чтобы не утяжелять свой отчет. Но, как бы я ни старался не выходить за рамки голых фактов, тем не менее должен упомянуть о наблюдении, обретающем все большую силу и очевидность: части тела Миртиля теперь принадлежат разным людям, но при всем этом, подобно тому как каждая частица древней руды сохраняет свойства радиоактивности, они оказывали своеобразное взаимовлияние. Точнее говоря, Миртиль, мертвый и расчлененный, стал как бы созвездием своих частей, мини-галактикой, наделенной собственным гравитационным полем. Доказательство: совсем недавно выпущенная на свободу Режина снова была вовлечена в орбиту Миртиля и теперь вращалась вокруг меня, а я сам вращался вокруг семи прооперированных, и все мы находились, так сказать, под воздействием Миртиля. Это был феномен уже не физического порядка, а скорее психического. Наши мысли получали тайные импульсы от исчезнувшего Миртиля; мы неотступно преследовали друг друга, так как оказались звеньями единой цепи и нас одолевали одни и те же мысли. Подтверждение своей гипотезе я получил по возвращении в Париж. Вечером того же дня позвонил священник Левире. Оказывается, он уже неоднократно звонил мне по поводу Жюможа и теперь казался сильно обеспокоенным. Я пригласил его зайти. Когда он пришел, я заметил у него на руке черную перчатку.