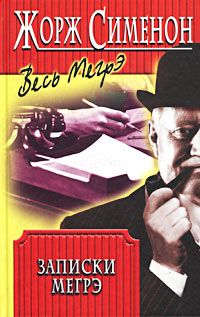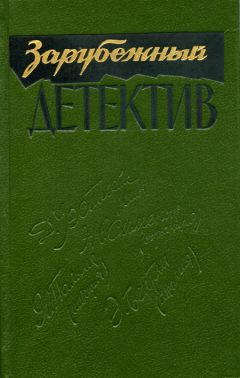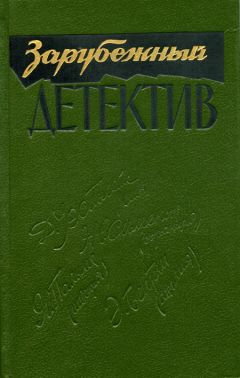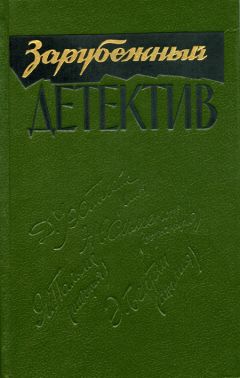Жорж Сименон - Малампэн
Приемные похожи друг на друга, кабинеты врачей тоже, отличаются только теми или другими инструментами. Отпуск проводят за городом и два или три раза в неделю собираются, чтобы поиграть в бридж.
Все это, разумеется, существует. Доказательство: я добросовестно делаю то, что полагается в определенные часы. Я скрупулезно выполняю супружеские обязанности. Я хороший отец. Но уже не в первый раз я внезапно останавливаюсь, смотрю на себя, сомневаюсь, правда ли, что все это существует?
Я ем в час ночи, после пережитой нами тревоги, и, более того, ем с очевидным удовольствием.
Так вот! Я мог бы уточнить с почти научной определенностью, что именно, когда я проходил по кухне, создалось это ощущение нереальности – я не почувствовал запаха! Потому что для меня запах кухни – это запах нашей кухни в Арси, запах горелого дерева, сырого молока, коровника, запах, который я не чувствовал больше нигде и который в моей подсознательной жизни остался связанным с жизнью в семье. Наша парижская кухня не пахнет ничем. Во всяком случае, для меня. Но я убежден что для Било, для Жана у нее такой же сильный запах, как в моих воспоминаниях запах кухни в Арси. Я думаю так же старательно, как и ем, чтобы прийти к чему-то определенному. Я поражен заключениями, к которым прихожу. Если я не ошибаюсь, то единственные реальные годы жизни – это годы детства.
И как раз, когда кажется, что ты начинаешь жить по-настоящему, ты действуешь более или менее впустую!
Так, значит, только один Било действительно прожил эти дни!
Вернувшись в спальню, я неловко или цинично спрашиваю у жены:
– А ты не хочешь есть?
Она только качает головой.
Разве она знает, где мои корни, если даже не была в доме в Арси и никогда не «прогуливала». А я даже не видел ее, когда она была девочкой. Вот уже пятнадцать лет, как мы живем вместе и спим в одной кровати. Что я знаю о ее внутренней жизни, а она о моей? Ведь это правда, что она, которая, впрочем, не ищет невозможного, в иные дни смотрит на меня так, будто видит впервые, и недоумевает, почему я здесь, возле нее.
Ну вот! Все это не имеет значения. Ничто не помешает нам продолжать так же, как мы начали, потому что так должно быть.
– Ты бы лучше легла, – говорю я. Она колеблется:
– А ты уверен, что не заснешь?
– Я совсем не хочу спать.
Она решается, желает мне доброй ночи, прежде чем выйти, проверяет, что воды, кипящей в кастрюле, достаточно. Она оставляет дверь полуоткрытой, потому что никогда до конца не доверяет мне.
Было бы все иначе, если бы мы любили друг друга? Мы живем как все, как мои мать и отец, как Морен и его жена, как несколько супружеских пар, моих коллег, кроме, может быть, супругов Фашо. Но Фашо женился на одной из своих пациенток в тот момент, когда не надеялся вырвать ее у смерти: в общем, он заразился добровольно.
Я женился потому, что мне уже было двадцать восемь лет и для врача удобнее быть женатым, чем холостяком. И я с определенной целью ходил по четвергам к моему учителю Филлу, зная, что он приглашает учеников в свою квартиру на бульваре Бомарше, потому что у него четыре дочери на выданье.
Там было приятно и мрачновато, наивно, все окрашено в серые тона. Жанна как будто сошла со страниц романа, написанного женщиной.
– Я должна честно поговорить с вами. Мое сердце не свободно...
Мы всегда вносили в наши отношения эту ребяческую честность, эту книжную деликатность. Она рассказала мне свой роман с молодым человеком, их соседом, который ухаживал за ней в течение двух лет и в конце концов заявил:
– Я не думаю, говоря по совести, что создан для брака. Меня привлекают колонии, приключения...
– А если бы я поехала с вами?
– Я не имею права брать на себя такую ответственность!
И он в самом деле прослужил три года в Габоне в качестве агента пароходной компании, потом женился в Бордо. А я взял в жены Жанну. Я совсем не уверен, что добьюсь истины. Вначале я почти извинял себя, считая, что такова была моя цель, когда я начинал, но теперь мне это безразлично. Что доставляет мне острое удовольствие" подобно прикосновению к больному зубу, так это ежеминутно вспоминать подробности, которые я считал забытыми. Так, например, кот. Как я мог забыть про черного кота, у которого всегда были болячки на голове и которого мать по десять раз в день выгоняла из кухни?
– Я запрещаю тебе гладить это грязное животное. Когда-нибудь заразишься от него...
И когда у меня обнаружили лишай, она ворчала:
– Я тебе говорила! Это от кота...
Что касается даты знаменитого посещения, то я ничего не могу вспомнить. Но я помню, как тетя Элиза жаловалась на моего дядю:
– Это какой-то оригинал. Он пропадает целые дни на велосипеде, ездит по своим делам и не говорит мне куда...
В то время дела дяди Тессона казались мне таинственными и даже страшноватыми, и самая дверь его кабинета уже пугала меня. Впоследствии я не стал узнавать о его делах. Зачем? Кажется, смысл в том, что бывший поверенный превратился в более или менее подозрительного стряпчего, каких встречаешь во всех маленьких городках. Он занимался покупкой и продажей недвижимого имущества, помещением денег и, конечно, ведением дел. Он не доверял своей жене.
У меня есть доказательство, что он действительно был таким дьявольски опасным, каким я его считал, будучи наивным ребенком.
Конечно, когда в возрасте около пятидесяти этот некрасивый, хромой человек женился на двадцативосьмилетней пышной девице, то для его семьи, то есть для моей матери и для его сестры, жившей в Нанте, это было предательством.
На языке Малампэнов это называлось воровством. Он украл у нас наследство, на которое мы рассчитывали, на которое имели право! Но эта старая обезьяна не была такой неосторожной, как могло показаться: он написал на крошечном кусочке папиросной бумаги завещание, лишавшее его жену наследства. Эту подробность я узнал позже от моего брата Гильома, которому мать всегда доверяла больше, чем мне. Я не знаю, по какому поводу между Тессоном и его женой возникали ссоры. Ревновал ли он? Я не думаю, что она изменяла ему, она ведь была осторожной и дорожила своим положением. Если только... Но я вернусь к этому позже. Во всяком случае, во время их ссор Тессон засовывал во много раз сложенное завещание под очень длинный ноготь своего указательного пальца. Он с шаловливым видом вертел этим пальцем перед тетей Элизой и дразнил ее:
– Цып, цып, цып!
Как крестьянка, когда она вечером загоняет кур в курятник.
Я не видел этого, но верю, что это бывало. Атмосфера в доме в Сен-Жан-д'Анжели допускала сцены подобного рода. Гильом утверждает, что вкусы моего дяди в том, что касается любви, были не совсем нормальные и что в спальне он использовал этот способ, чтобы заставить мою тетю быть послушной.