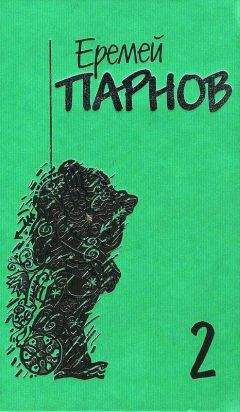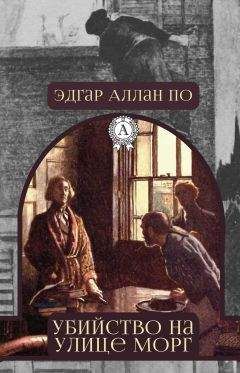Еремей Парнов - Третий глаз Шивы (С иллюстрациями)
— И это как-то связано с сомой?
— Трудно сказать. Во всяком случае, Агни присущ красный цвет, Соме — белый.
— Соме — богу? — уточнил Березовский. — Не растению?
— Как вы сами понимаете, сома — амрита, или точнее вселенская влага — понятие скорее философское, чем ритуальное. Героем культа, героем народного эпоса может стать только личность. И, подобно неистовому Агни, олицетворяющему жаркое пламя, людская фантазия создала Сому — бога жидкого огня, одухотворителя жизни. Но если Агни часто ассоциировался с Солнцем, то Сому пришлось повенчать с Месяцем. Луна, как вы знаете, почти у всех народов являлась синонимом плодотворящей влаги. И действительно, в мифологии позднейшего, эпического периода Сома есть именно Месяц. В Пуранах Месяц прямо называется ковшом амриты. Когда он прибывает и ночи светлеют, боги пьют из него свое бессмертие, когда идет на убыль, к нему приникают питри — души умерших — и высасывают до дна. В ту минуту, когда питри выпивают последнюю каплю, ночь делается непроглядной. Упанишады, которые древнее Пуран, прямо говорят: «Месяц есть царь Сома, пища богов». Таким образом, культ Сомы имеет еще одну грань, астральную. Подобная многозначность не является исключением. Астральные тенденции легко прослеживаются в мифологии Египта и Двуречья. Пирамиды строго ориентированы по странам света, зиккураты служили для астрономических наблюдений и так далее. И если в Древней Индии действительно умели изменять оттенки камней, это могло носить сугубо символический смысл. Возможно, здесь подтверждался исконный принцип «все во всем», лежащий в основе алхимии. Кубера желтый, Кубера белый и Кубера красный многозначен и все-таки един! Сома белый и Агни красный одновременно разделены и слитны, противоположны и неразрывны.
— Но Яма, владыка загробного мира, тоже, кажется, олицетворяет Месяц?
— Равно как и египетский Озирис и персидский Йима.
— Йима и Яма! — Березовский закрыл блокнот. — Хаома и Сома…
— Да, — понял его Бободжанов. — Это одно и то же. Но я не знаю, как вы сможете перекинуть мостик от мифологии к чисто практическим вещам…
— Тоже не знаю. — Березовский не скрывал своей полнейшей растерянности. — Вы преподали мне урок истинной мудрости. Еще час назад мне казалось, что я хоть немного, но знаю о чем-то, хоть вслепую, но все же нащупываю какие-то пути. И вот все рухнуло… Нет даже намека на точку опоры.
— Не беда! Такой точки не нашел даже Архимед, иначе бы он давным-давно опрокинул Землю. — Бободжанов вышел из-за стола. — Мы славно побеседовали. — Он протянул Березовскому руку. — Надеюсь прочесть вскоре вашу новую книгу.
«Что я скажу Володьке? — подумал Березовский, бормоча приличествующие случаю слова. — Это же полный крах! Куда я только полез, самонадеянный болван!» Тут он вспомнил о том, что должен еще поговорить с Люсиным о Марии, и почувствовал себя совершенно подавленным.
Глава восьмая. СЛЕД ГОЛОСА
Люсин сошел с троллейбуса у кинотеатра «Россия». В буфете за углом взял стакан вишневого напитка и бутерброд с колбасой. Стоя возле столика, без особого воодушевления сжевал невзрачный сухой ломтик.
«Падает качество колбасных изделий, — подумал он, поднося к губам стакан. — Равно как и сыров. А что делать? Неизбежные плоды массового производства. Даже Бельгия, как утверждает Дед, это почувствовала. Во всяком случае, топленое масло, которое они нам продают, не вдохновляет. Тиль Уленшпигель ему бы явно не обрадовался. — Он вытер губы бумажной салфеткой и поплелся на бульвар, все еще ощущая во рту кисловатый, прогорклый привкус. — Разум-то уговорить можно, а вот как с желудком быть?»
Деревья уже роняли первые листья. Они падали на скамейки, шурша по дорожке из толченого кирпича, пытались следовать за порывами ветра, но безнадежно отставали, скопляясь в канавках у решеток водостоков.
Люсин поспешил пройти бульвар и свернул к газетному киоску за «Советским спортом», но, заметив на другой стороне улицы Данелию, остановился и призывно махнул рукой.
— Гоги! — громко позвал он, сложив ладони рупором.
Данелия удивленно оглянулся, но толчея у мебельного магазина, где шла запись на какой-то удивительно дешевый гарнитур, помешала ему увидеть приятеля.
— Гоги! — вновь позвал его Люсин и, дождавшись зеленого света, наискосок бросился через улицу.
Только теперь Данелия увидел его и заулыбался.
— Ты чего это пешком? — удивился Люсин. — Никак, твой «Жигуленок» улучшенной модели сломался?
— Типун тебе на язык, нехороший человек! — поморщился Данелия. — Машина на стоянке. Я из цирка иду. По твоей милости я сделался там своим человеком.
— После кошмарной истории с кражей питона, — Люсин поцокал языком, — ты самый популярный у них человек, Гоги. Кого же и посылать, как не тебя? Что нового в программе? Арена и вправду как солнечный диск?
— Ладно-ладно. — Данелия ткнул его пальцем под ребро. — Мели, Емеля.
— Ну ты, гений дзюдо! — Люсин поморщился. — Не очень… Больно все-таки.
— Ах, ему больно! А другим, значит, не больно? Ты хоть знаешь, куда меня послал?
— Знаю. Вход справа и вверх по лестнице на второй этаж. Разве ты заблудился?
— Нет, не заблудился. Но первый вопрос, который мне задала вахтерша, был про навоз. Ты только вдумайся хорошенько: про навоз! «Если вы за навозом, гражданин, то вам не сюда надо…» Ты что-нибудь подобное слышал? Или у меня на лице написано, что я пришел за навозом? Похож я на такого? Да?
— Ничего не понимаю, Гоги! — взмолился Люсин. — Какой навоз?
— А я, думаешь, понимал? — Данелия не выдержал и фыркнул от смеха. — Уже потом, когда я все сделал и пошел домой, то есть на работу, мне бросилось в глаза объявление, которое они повесили на воротах Центрального рынка: «Цирк отпускает навоз в неограниченном количестве всем желающим». Каково? И из-за этого меня, Георгия Данелию, чемпиона Москвы по самбо, приняли за какого-то дачника, за цветочного спекулянта, за вонючего выращивателя шампиньонов!
— Бедный, бедный наш цирк! — пригорюнился Люсин. — Финансовые органы не отпустили средств на уборку навоза! Пришлось воззвать к частному сектору… Будем надеяться, что садоводы останутся довольны экзотическим удобрением, которое производят слоны, бегемоты и антилопы нильгау.
— Когда-нибудь я застрелю тебя, Люсин, — вздохнул Данелия. — С большим удовольствием застрелю.
— Лучше замолвь за меня словечко товарищу Местечкину, чтобы определил в клоуны. С детства обожаю.
— Пожалуй, и вправду так будет спокойнее. Самое тебе место на ковре, у рыжего на подхвате.
— А кроме шуток, Гоги?
— Напрасно время потратил, Володя. — Данелия огорченно поджал губы. — С кем только я не говорил! Не знают у нас факирских фокусов. Что тут будешь делать? Ни Дик Чаташвили, ни Акопян, тоже наш кавказский человек, не могли мне сказать ничего путного, а Игорь Кио так прямо посоветовал взять командировку в Индию, даже рекомендательное письмо пообещал.
— Плохи наши дела.
— Чего хорошего? Лишь однажды мне хоть чуть-чуть, но повезло. Глава знаменитого циркового семейства Беляковых вспомнил, что знал одного артиста, который умел делать знаменитый фокус с манго.
— Это когда дерево в руках прорастает?
— Ага. Прямо на глазах у изумленных зрителей. Все мне твердили, понимаешь, что это, как и классический фокус с канатом, массовый гипноз. Но товарищ Беляков твердо стоит на том, что сам видел, как из кучки земли в руках того артиста проклюнулся росток и затем выросло крохотное деревце.
— Имени артиста он, конечно, не помнит?
— В том-то и дело, что помнит! Он мне даже его телефон дал.
— Чего же ты сразу не сказал?!
— Э, не надо волноваться, Володя! — отмахнулся Данелия. — Я уже звонил. К сожалению, товарищу факиру минуло сто лет… Так-то, милый друг. Как ни печально, последний русский факир не очень меня порадовал. Долго рассказывал о том, как путешествовал по Монголии и Тибету, как учился мастерству у персидских дервишей и маньчжурских гадателей. Но на мой конкретный вопрос о фокусе с манго ответил как-то невразумительно. То ли забыл он, как это делается, то ли действительно ничего здесь нет, одна сплошная иллюзия и массовый гипноз. Больше ничем порадовать тебя не могу.
— Данелия даже руками развел. — Извини.
— И на том спасибо, Гоги.
— По крайней мере до места незаметно дошли. — Данелия поставил ногу на ступеньку и, полуобернувшись к Люсину, кивнул на подъезд: — Прошу, маэстро!
— Только после вас, — церемонно отступил в сторону Люсин. — А поговорили действительно интересно.
Раскрыв пропуск, он кивнул дежурному и поспешил к лифту. От его утренней лени и созерцательного настроения не осталось и следа. Словно что-то торопило его здесь и подгоняло, словно электрические часы над входом незримо для постороннего глаза подкалывали его стальными остриями своих стрелок.