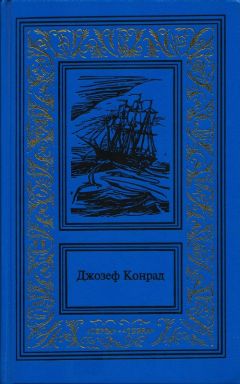Артур Филлипс - Египтолог
Традиционная мумификация предполагает наложение на зашитую рану печати в виде глаза Гора. На тело кладут золото, драгоценности и амулеты. На пальцы рук и ног надевают золотые наперстки. Я могу ошибаться, но полагаю, что данная мумия подобного броского снаряжения, вероятно, была лишена.
Обычно каждый палец на руке и ноге оборачивается пеленами отдельно. Затем настает очередь рук и ног, затем в двадцать слоев пеленаются тело и голова. Для запечатывания этих громоздких покровов используется разновидность смоляного клея, после чего голова мумии покрывается маской. Эти работы под силу выполнить нескольким людям, не одному. Мы можем лишь представить себе, как усердно монарх трудился, пренебрегая в спешке ритуальными предписаниями. В одной из последних битв войны с гиксосами царь был сильно ранен в ногу; собравшись с убывающими силами, он обернул тяжелое тело всего только пятью слоями пелен — и перекатил мумию былого союзника в центр его погребальной камеры.
Покончив с пеленанием, царь, используя древний химический препарат либо узорный шаблон, тайна которого от меня ускользает, изобразил на груди мумии символы правления Атум-хаду — грифа, сфинкса и кобру, а также девиз «ГОР ПОЖИРАЕТ СЕРДЦА ПРОКЛЯТЫХ».
За отсутствием маски для мумии царь нарисовал лицо прямо на обернутой пеленами голове, пересоздав Владыку человеком, который исполняет приказания царя без вероломных мыслей и пререканий. Льняные пелены непригодны для рисования, не говоря уже об изображении раскаяния, угодливости и покорности. Однако царь простыми и энергичными движениями кисти совершил необычайный, почти божественный акт прощения, превратив корыстолюбивого и ненадежного спутника в человека совсем иной сущности, создав компаньона и отца, которому он мог довериться.
Текст на стене Камеры Владыки Щедрости заканчивается так:
«Ты снова молод, ты снова жив. Ты снова молод, ты снова жив». Царь повторил слова ритуала своему другу и земному отцу, который любил царя как сына все то время, что провел в этом мире.
Уж не знаю, нервы это были с тем мальчишкой на нильском пароме или нет, но где-то в тот момент преступление совершалось, факт, потому что утром на следующий день, 1 января, когда я, добравшись со своим багажом до пирса, ждал посадки на каирский пароход, ни Трилипуш, ни Финнеран так и не появились. Я стоял на пирсе и рассматривал чуть не под лупой каждого пассажира, который поднимался по сходням, пошатываясь. Я ждал до тех пор, пока стюард последний раз не объявил, что пароход отчаливает, затем попросил его проверить список. «Да, сэр, Финнеран и Трилипуш заказали места и оплатили билеты, но на борту их нет». Уже не помню, обрадовался я или испугался. Оставляю это вам, Мэйси, опишите сами. Судно уплыло без меня, я оставил багаж у портье и снова с головой ушел в работу.
Я нанял мальчика следить за пирсом, послал еще одного на вокзал и поспешил в полицию, где поставил инспектора перед неоспоримым фактом: куда-то делись два человека, и не в 1918 году, а буквально сегодня, американец и англичанин, гости Египта, археологи, пропали без вести — уже официально. (Иногда для того, чтобы сдвинуть с места неподвижное тело, которое загораживает путь, достаточно немного приврать. У страха глаза велики.)
Прилагаю маленькую вырезку из «Луксор таймс» от 11 февраля 1923 года, «Австралийский детектив помогает полиции Кены». Тогда эта газета, серьезная и авторитетная, выходила, кажется, раз в три дня. Заметка недлинная, но в ней довольно точно описано, чем все тогда закончилось. На скромном рисунке — Гарольд Феррелл образца 1923 года во всей красе.
Я отвел полицейского в Трилипушев особняк (жившие там журналисты поздоровались и сказали, что ничего не знают), а потом к реке. На полицейском мотоцикле мы быстро оказались на том берегу. На этот раз еще в четверти мили или того дальше от Трилипушева участка мы с полицейским нашли патефон с именем Трилипуша на крышке. Странный знак: прибор стоял на тропе, одинокий патефон посреди пустыни. На нем имелась пластинка, я переписал название: «Сижу на качелях, садись, дорогая». Еще через сотню шагов мы наткнулись на кострище с обгорелыми лохмотьями одежды. Что-то деялось, что-то очень нехорошее. Я повел инспектора назад вдоль склона, вывел в Долину царей на Картеров участок. Там я спросил Картера, видел ли он Трилипуша или Финнерана за время, прошедшее с нашей с ним беседы. Не видел. Инспектор вызвался опросить Картеровых рабочих, не знает ли кто из них чего про Трилипуша. Им задали этот вопрос, и тут один из них, абориген, признался, что даже работал на англичанина весь ноябрь месяц — а что такого? Мы отвели его в сторону. Этот египтянин, физически крепкий, лысый парень лет тридцати — тридцати пяти, подозрительно оправдывался. Он рассказал, что покинул экспедицию Трилипуша в конце ноября, потому что она точно провалилась, и утверждал, что не видел англичанина с 25 ноября, когда перешел работать к Картеру. Он говорил, что про Финнерана ничего не знает, даже о нем и не слыхал. Мы записали его имя и адрес, и он снова пошел копать.
Дальше события развивались очень быстро, Мэйси, следите внимательно. У меня было две версии, которые, хочешь не хочешь, нужно было работать одновременно, потому что время утекало с бешеной скоростью: (а) я потревожил Трилипуша и Финнерана своим дознанием, и они под покровом ночи сбежали, Финнеран в Бостон с золотом, а Трилипуш туда, где я со своим расследованием убийств Марлоу и Колдуэлла его не достану, ИЛИ (б) на них напал тот, кто знал, что они нашли золото, и — вуаля, преступление совершилось. Следовало учитывать обе возможности, хотя возиться с версией А, как потом выяснилось, было совсем не обязательно. Мои люди не переставая следили за вокзалом, еще я телеграфировал в каирский отель, чтобы они дали сигнал тревоги, когда и если мои подозреваемые там у них появятся. Потом мы вернулись в полицейский участок, и инспектор наказал своим людям смотреть в оба за всеми, кто напоминает Трилипуша и Финнерана и, возможно, перемещается с большим багажом, который не захочет открывать по требованию полицейского. Коли такие люди найдутся, следует учесть, что они очень опасны.
Но, как я уже сказал, нужды в этой суете не было никакой, поскольку инспектор вдруг нашел дело того черного, с которым мы говорили на Картеровом участке и который работал на участке Трилипуша. Оказалось, что на предыдущем месте работы на пароходной линии Каир — Луксор он ввязался в драку! После той потасовки его арестовали, потом отпустили, а с парохода все равно уволили. Это было в конце октября, после чего он и пошел к Трилипушу, который, уж конечно, был счастлив нанять на работу известного бандита. Мы с полицейским немедленно отправились прямиком к аборигену домой. И что бы вы думали? Мы пришли за несколько минут до того, как вернулся хозяин. Он покинул участок Картера в середине рабочего дня, сразу после того, как мы с ним побеседовали, и это очень подозрительно. Мы прибыли как раз вовремя. Пока абориген громко и путано что-то объяснял, его жена причитала, а детки ревели, я нашел у него под кроватью еще один патефон с именем Трилипуша на крышке. А на столе у него стояла неприкрытая тарелка, в которой лежал десяток или больше сигар с черно-серебряными ярлыками и монограммой «Ч. К. Ф.». Все прояснилось. Нашего подозреваемого взяли под стражу во второй половине дня 1 января 1923 года. Убийства произошли в промежутке между нашей с Трилипушем беседой и этим утром. Вряд ли вы удивитесь, узнав, что алиби нашего аборигена было хилым, чтобы не сказать больше.
Я винил и виню себя во многом из того, что произошло. Кабы за два дня до того я не дал Трилипушу уйти, он был бы жив и встретил судьбу куда более подобающую, чем убийство от руки собственного бывшего рабочего. Кабы я мог положиться на мою армию следопытов, кабы я смог разыскать на участке раскопок Финнерана, кабы я мог… Честно говоря, не знаю, что бы я сделал. Трилипуш, в конце концов, был убийцей, он знал, что почти попался, и не считал меня защитником, хотя и следовало. Правосудие карает нас, Мэйси, оно же защищает нас. Трилипуш все еще мог избежать ужасного и совсем не очевидного конца, когда бы обратился ко мне. Но гордецы так себя не ведут, они сплошь и рядом предпочитают умереть, а не сдаться.
Полицейские допрашивали египопа (не могу найти в своих записях его имя, позор для историка и тревожный просчет для детектива, признаюсь) жестко, но не преступая закона, и я участвовал в допросах, потому что им могли пригодиться мои знания по этому делу в частности и по преступной психологии вообще. Подозреваемый, что неудивительно, отрицал, что имеет отношение к убийствам, и утверждал, будто Трилипуш подарил ему сигары и патефон в ноябре. Не исключено, сказал один из полицейских инспекторов. Прошло время — и араб принялся рассказывать совсем другие байки, даже признался, что жестоко избил Трилипуша (и не один раз, добавил он позже) и украл патефон, словно эта полуправда способна была вывести его из крайне затруднительного положения. Добился он одного: ему перестали верить те немногие, кто из великодушия допускал, что араб невиновен. Позже тот взял свои слова назад, в конце концов его небылицы стали как рагу из несовместимых продуктов. Он фактически признался в совершении убийств (услышать это нетрудно, нужно только уметь слушать), а вот куда схоронил трупы — не сказал. Еще доведенный до отчаяния араб с завидным упорством, независимо от степени жесткости допроса, повторял, что никакого сокровища не было, что Трилипуш так ничего и не раскопал. Налицо было явное расхождение с фактами, ставившее под сомнения все остальные его показания. Но эту ложь араб твердил до умопомрачения, и стало ясно, что он никогда и никому не скажет, где зарыл золото или какому родственнику его передал.