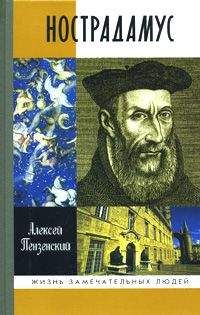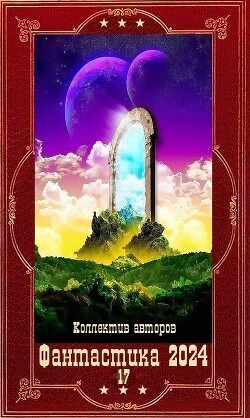Шаги во тьме - Пензенский Александр Михайлович
– Нина! – Ильин решительно встряхнул девушку, заставил посмотреть на себя. – Нина, он мертв. Тихо! Это несчастный случай. Ты слышишь?
Кивнула. Ильин осмотрелся: слева и сзади глухой забор, окна наверху не горят. Точно, аптекарь на водах. До дома около двухсот шестидесяти шагов. Две минуты туда, минуту на инструктирование жены, минуту на звонок, минуту обратно, потому что бегом. Нет, обратно надо через улицу и шагом. Три с половиной минуты. Всего семь с половиной минут.
Дарья Кирилловна охнула, увидев дочь, но выслушала молча, без вопросов, и тут же начала исполнять. Антон Савельевич этого уже не видел, так как крутил ручку телефона, но был уверен – жена уведет Нину в комнату, отсчитает капель и просидит у постели, пока дочь не уснет. Пожалуй, что и дольше будет сидеть.
На том конце сонный голос побурчал:
– Афанасий Северский у аппарата.
– Афанасий, это Ильин. Слушай и не перебивай. Ты мне должен сто рублей. Закроешь этот долг и завтра получишь еще столько же. Надевай фрак, гримируйся в меня. Да, как тогда на юбилее. Тебе надо опоздать на десять минут, просидеть в ложе и уйти за десять минут до конца. Да, чтоб ни с кем не встретиться. К любовнице мне надо. Да, представь. Сто, не торгуйся. Отбой.
Посмотрел на часы. Черт, просил же не перебивать – разговор занял на полминуты больше. Открыл ящик стола, достал «Веронал» [4]. Ровно через три с половиной минуты он дважды нажал на кнопку звонка справа от двери аптеки.
– Меня подвели наука и жара – доктор ошибся во времени смерти.
– Что сказал Ильин? – Зина протянула мужу чашку мятного чая, села рядом в плетеное кресло, накинула плед.
– Стоит на своем. Все берет на себя.
Зина кивнула.
– А дочь?
– Нам призналась. Рыдала по бедному Бондареву. Но после разговора с отцом молчит. Заусайлов потом рассказал, что Ильин попросил его отправить жену с дочерью куда-нибудь на время суда. Боится, что она порушит его версию. Александр Николаевич ему пообещал.
Зина снова кивнула. Константин Павлович взял жену за руку:
– Что делать мне?
– Решай сам. Я бы оставила за ними право на выбор. Но думаю, он уже сделан. Хотя как Нина сумеет жить с таким грузом, я не знаю.
Вокруг подвешенной к потолку террасы лампы кружилась пара мотыльков, затрещали цикады. Пузатая луна осторожно карабкалась по черному небу, отталкиваясь от ненадежных ступенек просыпающихся звезд. Зина уселась мужу на колени, прижалась к груди.
– Костя. Пообещай, что ты не будешь меня бранить?
Он отстранился, посмотрел на жену – в ее глазах плясали чертики.
– Тебя? За что?
– Зажмурься. Крепко. И не подглядывай.
Легкие шаги прошелестели по молодой траве, скрипнула дверь, снова шаги.
– Открывай.
В плетеной корзинке, с голубым шелковым бантом на шее, тихо посапывал мокрым носом черный щенок. Константин Павлович посмотрел на застывшую в ожидании жену.
– И как мы его назовем?
Зина захлопала в ладоши, даже подпрыгнула.
– Умный у нас в семье ты, ты и имя придумывай.
– Да уж, умный…
На столике рядом с креслом стоял забытый с субботы набор для преферанса. Константин Павлович откинул крышку, не глядя вытащил карту – трефовый валет. Ну нет, Валет – слишком по-фартовому. Полицейскому, хоть и бывшему, не к лицу.
– Пускай будет Треф. Тебе нравится?
ЛЕТО 1912 года
Кошерное золото
Александр Павлович Свиридов погибал. Да что там погибал – уже погиб, и никакие превосходные степени, приставки и прочие грамматические конструкции не требовались для описания глубины этого несчастья. После возвращения господина Свиридова из безымянности и беспамятства прошло уже полгода [5], с благословения профессора Привродского и Владимира Гавриловича Филиппова он вернулся на службу – благо начальнику уголовного сыска столицы империи теперь как раз полагалось два помощника, и мир вокруг Александра Павловича только-только упокоился в некотором равновесии. Шумный Петербург убаюкивал своей суетливостью и видимостью беспорядка, работа в два счета привела в боевое состояние несколько заржавевшее сознание, еженедельные встречи с профессором уже носили больше формальный и даже отчасти дружеский характер, нежели в действительности были потребны для здоровья бывшего пациента. Но грянул гром! Тот самый спокойный, вертикальный и преимущественно прямоходящий мир совершил новый кувырок, будто акробат в полосатом трико под куполом цирка. Александр Павлович Свиридов, мужчина тридцати пяти лет, холостой, православного вероисповедания по рождению и атеист по убеждениям, влюбился!
Безусловно, ничего ужасного или предосудительного в самом таком положении нет – все мы когда-нибудь испытываем приступы особой нежности к какой-либо особе, теряя сон и аппетит. Порой это даже длится очень долго, переживая и «горе и радости, богатство и бедность, болезни и здравие» – и даже последующее восстановление потребностей организма. Несколько хуже, ежели упомянутая особа оказывается несвободна. Но натур пылких и это обстоятельство не всегда способно остановить. Совсем уж плохо, когда чувство ваше не находит ответа. Однако когда супругом вашего предмета обожания является ваш же близкий друг, то тут уж действительно погибель! Ни о каком поиске взаимности человек честный не смеет и помышлять, а лишь страдает одиноко, сгорает, выжигаемый изнутри то ли любовью, то ли чувством вины, то ли обоими этими огнями одновременно или поочередно.
И Александр Павлович пал жертвой именно такой болезненной страсти, приведшей к появлению под глазами темных кругов от бессонницы, рассеянного взгляда и увеличению каждодневных трат на папиросы. По долгу службы и долгу дружбы вынужден он был почти ежедневно встречаться и с той, что лишила его покоя, и с тем, к кому он изо всех сил старался не испытывать зависти. Встречи эти были и сладостны, и мучительны, делали Александра Павловича еще молчаливее и задумчивее, нежели его сотворила природа.
Вот и теперь, сидя в своем кабинете, он вдруг понял, что уже полчаса смотрит на фотографический портрет императора на стене, мусолит незажженную папиросу, но так и не перевернул первую страницу взятого из несгораемого шкафа дела.
– Черт знает что, – пробормотал Александр Павлович, сунул измочаленную папиросу в латунную пепельницу и расстегнул воротничок. – Любовь-морковь. Этак недолго и стишки начать сочинять.
Он поднялся, распахнул окно. С улицы, разгоняя по углам кабинета собравшийся сумрак, ворвались утренний свет, звуки города и сырой запах канала. Цокали по мостовой копыта, посвистывали и пощелкивали кнутами «ваньки», по тротуарам фланировали парами барышни, приятно шурша юбками светлых летних платьев. На Львином мостике два балбеса-реалиста [6] состязались, кто дальше плюнет в канал. Свиридов хотел было кликнуть городового, но пожалел лоботрясов и лишь тряхнул головой да глубоко вдохнул заоконные ароматы. После этого «моциона» он вернулся в кресло и снова взял листок протокола осмотра места преступления. Перечитывал Александр Павлович его уже раз в десятый, притом что составлял его сам, и все пытался найти в документе что-то новое, что-то упущенное. Дело было не просто странное – дело было мистическое. Хоть попа вызывай, даром что ограблен еврей-ювелир.
Вчера утром, явившись после шаббата в лавку в зеркальной линии Гостиного двора, ювелир Ицхак Шейман с младшим приказчиком, племянником жены Эзрой Симоновичем, увидели страшную картину: дверь отперта, стеклянные витрины выпотрошены («Господь, конечно, высушит руки этих непотребцев, но что там взяли, то ж дешевка для кухарок»), громадный напольный сейф бесстыдно распахнут и пуст («А это же полный гембель [7], пан полковник, там же не просто золото и камни, там же экспонаты Эрмитажа, предметы искусства, но для воров они ж просто цацки»), а на полу, прямо посреди комнаты, на куске беленой рогожи аккуратно разложен полный комплект медвежатника: и фомки, и отмычки, и ручные сверла, и даже масленка с тонюсеньким горлышком – в замочные скважины капать да петли от скрипа предохранять.