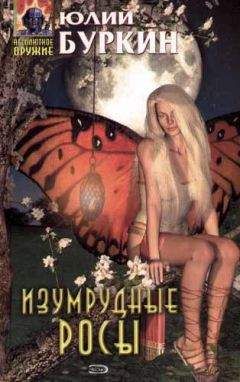Борис Акунин - Ф. М.
Однако Аркадий Иванович понял его неправильно.
– Это вы насчет того, что чересчур самонадеянно поступили, когда вдвоем на такое дело пошли? Но откуда вам было знать, что я таков? – Он показал поросший волосами кулак, размером с младенческую голову. – Обычного человека да при вашем вооружении вы отлично бы заарестовали. А я силен, как медведь. Кстати, по молодости лет, спьяну, любил с медведем побороться, без труда косолапого на спину валил. У меня и в полку прозвище было «Топтыгин». Что правда, то правда – природой одарен, прещедро. Воспользовался только не в благо. Да что вы всё стоите? – будто спохватился Свидригайлов. – В ногах правды нет. Садитесь.
Он хотел пододвинуть другой стул, но Порфирий Петрович опередил его:
– Ничего-с. Я сам.
И уселся чуть поодаль, таким манером, чтобы оказаться недалеко от упавшего на пол револьвера. Расстояние было – шага два. Ближе нельзя, бросилось бы в глаза.
– Позволительно ли мне будет поинтересоваться, что вы намерены делать далее? – спросил надворный советник, думая сейчас только о том, чтобы потянуть время.
– С вами? – Свидригайлов удивился, словно этот вопрос еще не приходил ему в голову. – Право, не знаю. Я и на свой счет пока в сомнении. То есть, имею намерение отправиться в путешествие, но пока еще не вполне решил касательно деталей… Давайте покамест потолкуем. Давно не имел возможности хорошо поговорить, да с умным человеком. Давайте руку зашибленную перетяну, чтоб не беспокоила.
Он вынул платок и очень ловко, почти не причинив Порфирию Петровичу страданий, перетянул кисть.
Еще и головой покачал:
– Кости переломаны. Через час-другой заболит сильно. Это у меня в набалдашник свинец залит. В деревне еще сделал, руку укреплять. Не думал, что для другого сгодится. – Аркадий Иванович помочил водою из графина салфетку и протер запачканного сфинкса. – Таинственный зверь. Человекам загадки загадывает, а не ответишь – изволь отправляться в царство Аида.
Он развязал на себе галстух и соорудил подобие перевязи, на которой заботливо расположил руку пристава.
– Вот так. А теперь мы с вами хорошо и неспешно поговорим, ночь еще длинная. Потому что как же умным людям по душам не поговорить, хоть бы и среди этакого бедлама? – кивнул он на два мертвых тела. – И даже особенно среди бедлама. Вся Россия в этом.
– Вы находите? – повернулся к нему Порфирий Петрович, всем видом изображая заинтересованность, а на самом деле выгадывая еще пару вершков расстояния до своего «франкотта».
Заболтать бы этого любителя «хороших разговоров», подумал он, да как-нибудь исхитриться – тут мало револьвер подхватить, надо еще успеть к стенке отскочить, пока он своим сфинксом не размахнулся…
– Я ведь, признаться, совсем не вас тут подстерегал-с, – начал он забалтывать.
– А кого?
– Студента Раскольникова, Родиона Романовича.
Этим объявлением Свидригайлов ужас как заинтересовался.
– Раскольникова? Но, помилуйте, почему?
– Да вот, изволите ли видеть… – Порфирий Петрович сконфуженно улыбнулся. – Вообразилось мне, что это не обычные какие-нибудь убийства, не с корысти и не из мести, а… Как бы это выразить? Преступление нового типа, в согласии с общим кризисом религии и веяниями эпохи-с. Померещилось мне сдуру, что тут непременно какая-нибудь теория должна быть. И, на грех, Родион Романыч подвернулся. У него как раз теорийка одна имеется, прелюбопытная. Насчет человечества. Мол, всяких обыкновенных, никчемных людишек убивать вполне дозволительно, если, конечно, для пользы дела и если сам убийца – человек необыкновенный. Это одно-с. А другое – студент во все время расследования, как нарочно, под ногами у меня путался. То с одной стороны высунется, то с другой. А про вас я и не думал вовсе…
Кажется, получалось. Помещик слушал с огромным интересом, а свою жуткую трость уставил в пол и уперся в сфинкса подбородком. Ну и глаза, подумал Порфирий Петрович. Он, Аркадий Иванович этот, самый настоящий сфинкс и есть: загадывает загадку, и попробуй не отгадай.
– Ну что же вы, – усмехнулся Свидригайлов, – умный человек, и по всему видно, опытный, должны бы в душах лучше читать. Какой из Родион Романовича убийца? Убийство – дело серьезное, а у него фантазии одни. Главное же, сердце у него жалостливое, не то что у меня. Думаете, легко человека, даже самого прескверного, топором или вот этим вот сфинксом по темечку? В голове ведь душа обретается. Не здесь, как фигурально выражают поэты, – он коснулся груди, – а вот тут-с, под костьми черепа. Разве нет?
Порфирий Петрович, будучи человеком практического умонастроения, вопрос о месторасположении души считал схоластическим, а потому от суждения воздержался.
– Нет, – продолжал Аркадий Иванович. – Для убийства нужен человек грубый, человек действия, арифметический человек. Так что с Родионом Романовичем вы обмишурились. Зато про теорию угадали верно. Есть у меня одна теорийка, собственного изобретения. Обогатить ею человечество не тщусь, да и опасно, а для себя одобрил и с успехом применил.
Надворному советнику уже стало ясно, что нужно не забалтывать собеседника, а всего лишь не мешать ему говорить – так для плана выйдет лучше. Помещик, видно, и в самом деле давно ни с кем откровенно не разговаривал, потому что слова лились из его уст неостановимым потоком.
– Ведь я, милостивый государь, кто? Животное, и притом злое животное. Это благородный лев сражает жертву одним ударом, наповал, и единственно лишь ради утоления голода. Я же всегда был подобен коту, которому над мышкой еще поизмываться надо. Всегда во мне это было, сладострастие пополам с жестокостию. Но было и иное… нечто. Если б того, иного, не было, то я нисколько и не чувствовал бы себя злым животным, верно?
Странные огоньки вспыхнули при этих словах в неподвижных глазах Свидригайлова, и Порфирий Петрович мысленно поежился: э, голубчик, да тебе, пожалуй, не в каторге место, а в скорбном доме, в отделении для буйных.
– Произошло в моей жизни кое-что, не столь давно. Вам ни к чему знать. Скажу лишь, что встретил я одну необыкновенную девушку… Нет, неважно. – Аркадий Иванович тряхнул рукой, будто отгоняя какое-то видение. – Вы только не вообразите себе, будто я через это событие, как пишут литераторы, переродился к новой жизни. Нисколько! Жену свою, Марфу Петровну, я уж после того отравил… Что глазами хлопаете? Удивляетесь признанию? Да что мне скрытничать, если я на ваших глазах только что двоих укокошил?
И если ты меня вскоре вслед за ними отправишь, добавил про себя пристав, еще чуть-чуть съехав телом в нужном направлении. Оставалось переместиться совсем немного, а там лишь улучить удобное мгновение – когда болтливый убийца зажмурится или хоть взгляд отведет.
Пока, однако, глаза Свидригайлова, хоть и затуманенные воспоминанием, были всё устремлены прямо на Порфирия Петровича.
– Но к тому времени, когда я Марфе Петровне в ее любимую наливку итальянских капель подлил, у меня уж созрела моя теорийка. Под нее и кредитец взял.
– Кредитец?
– Да. Теория моя, видите ли, состоит в том, что я себя, злобное животное, перед отъездом в Новый Свет, должен в нуль вывести. Чтоб в вояж отправиться чистым, как младенец. Так сказать, новорожденным человеком.
– Что-то я перестал вас понимать, – нахмурился пристав, в самом деле запутываясь в свидригайловских аллегориях. – Как это «вывести в нуль»?
– Очень просто, посредством некоторого арифметического действия. Я, знаете ли, огромный грешник, – доверительно сообщил Аркадий Иванович, словно рассчитывал удивить собеседника этим откровением. – Не в смысле обычных человеческих пакостей, на какие всякий горазд. То есть, конечно, и блудил, и плутовал, и пьянствовал. Желал, так сказать, и жены, и осла, и вола. Все это делают, во всяком случае многие. Но душу живую убивают весьма и весьма немногие, и тут уж прощения нет. Каждая погубленная душа в некоей бухгалтерии зачитывается в большущий минус. На мне таких минусов четыре.
– Шелудякова, Чебаров, Зигель… – принялся считать Порфирий Петрович.
Но Свидригайлов рассердился, перебил:
– При чем тут Зигель? Какая душа у Зигель? Дойду еще до Дарьи Францевны, а сейчас я про иное. Об жене моей Марфе Петровне я вам уже сказывал. Ее я себе проавансировал, с последующим погашением ссуды.
– Что-с? – вновь недопонял надворный советник.
– Вы слушайте, не перебивайте! Это, стало быть, первый мой минус. Хотя нет, если по порядку, то он выходит третий. Я ведь еще прежде жены две живых души извел. Но Марфу Петровну хоть по страсти и расчету, а тех двоих ни с чего, от скуки да развращенности. Первый мой минус приключился, когда я девочку одну глухонемую до веревки довел. Сам не убивал, но лучше бы уж собственными руками, всё не так подло бы вышло. Не стану рассказом времени отнимать – долго получится… И еще лакея своего, тоже неподсудным образом, так что даже и под следствие не угодил. То есть для закона до самого последнего времени я был совершенно чист, – засмеялся Аркадий Иванович, – хоть и ходил по белому свету тремя минусами, словно тремя осиновыми колами, пронзенный… Ну вот-с. А когда я ту девушку полюбил, начались у меня видения… Я вам этого еще не сказывал, что полюбил-то? Сказывал? Это, знаете, как бывает: встретишь женщину, одну на всю жизнь… То есть, может, и не встретишь, а нафантазируешь себе. Ее, скорее всего, не существует вовсе, этой женщины – одна игра воображения. Исчезнешь ты, и ее тоже не станет. Вот кстати интересно будет проверить, исчезнет она или нет… – Он на миг умолк, о чем-то призадумавшись, да и тряхнул головой. – Ладно, passons. Не о том ведь рассказать хотел – о видениях. Так вот, когда я девушку эту полюбил или нафантазировал (сам не знаю), начались у меня видения…