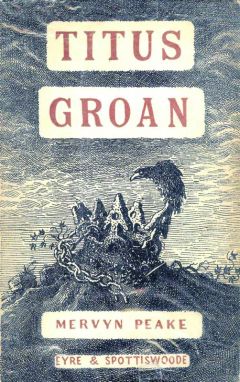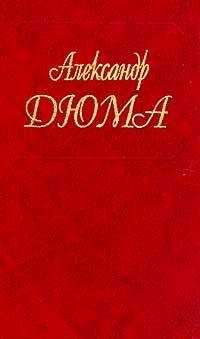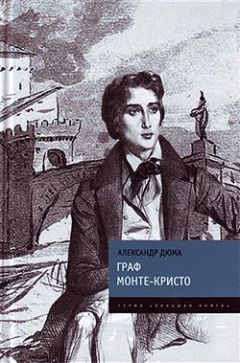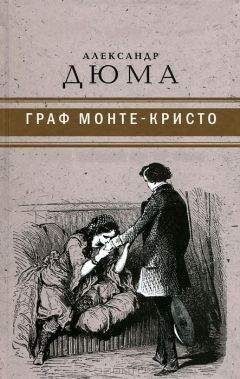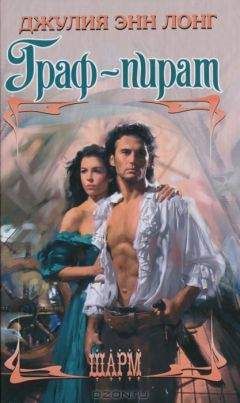Александр Дюма - Катрин Блюм
— Э, Матьё, — сказал папаша Гийом, с сожалением глядя на бродягу, спокойно евшего свою картошку, сидя у огня, — ты слышишь? Он и про белку мне скажет, на каком она дубе сидит, и про ласку, в каком месте она дорогу перебежала, а ты вот так никогда не сумеешь!
— А на кой черт мне это уметь! Что мне от этого?
Гийом пожал плечами при виде такой беззаботности, непонятной ему. Потом он надел куртку, в которой ходил утром, застегнул полугетры, взял ружье — по привычке и потому что без ружья он бы не знал, что ему делать со своей правой рукой, — и ушел, дружески пожав Франсуа руку.
А Франсуа, выполняя обещание, данное Косому, проводил взглядом папашу Гийома, направившегося по дороге к Тет-де-Сальмон, подошел к хлебному ларю, открыл его и отрезал кусок черного хлеба примерно в полфунта, прошептав:
— Ах, старая ищейка! То-то ему не терпелось, пока я тут докладывал. Ну, Косой, дружище, вот, по-моему, славный кусочек горбушки! А теперь, после всех трудов, пошли в конуру, да поживей.
И он тоже вышел, но через пекарню, к которой снаружи примыкала конура метра Косого. Для собаки горбушка была некоторым утешением при огорчительной необходимости вернуться в конуру, и она последовала за ним. Матьё остался один со своей картошкой.
III
ЗЛОВЕЩАЯ ПТИЦА
Едва Франсуа исчез из виду, Матьё поднял голову и его туповатая физиономия мгновенно преобразилась и обрела вполне осмысленное выражение.
Потом, прислушавшись к удаляющемуся звуку шагов и затихающему вдали голосу молодого лесника, он на цыпочках подошел к бутылке, поглядывая своими косящими глазами одновременно на ту дверь, через которую вышел папаша Гийом, и на ту, за которой исчез Франсуа.
Он поднял бутылку вверх, чтобы разглядеть в потоке света, пронизывающем комнату золотистой стрелой, много ли еще там осталось, и решить, сколько можно отпить, чтобы это было не слишком заметно.
— Ах, старый скряга! — сказал он. — Подумать только, даже не угостил!
И, чтобы исправить забывчивость папаши Гийома, Матьё поднес к губам бутылку и быстро отхлебнул из горлышка три или четыре глотка обжигающего напитка так, словно это была самая безобидная водичка, не издав при этом ни «хм!», как папаша Гийом, ни «х-хо!», как Франсуа.
Однако шаги последнего приближались к двери, и Матьё быстро и неслышно вернулся на свою скамеечку возле камина и с невинным видом, способным обмануть даже Франсуа, затянул песню, которую оставил на память здешнему населению стоявший некогда в замке Виллер-Котре полк драгун королевы.
Матьё дошел до второго куплета, когда Франсуа вновь появился на пороге пекарни.
Вероятно, чтобы выказать свое безразличие как к отсутствию, так и присутствию Франсуа, Матьё намеревался продолжить нескончаемый романс и не прерывать второй куплет, но Франсуа, подойдя к нему, сказал:
— Что это ты тут распелся?
— А разве петь запрещено? — спросил Матьё. — Тогда пусть господин мэр велит торжественно объявить об этом повсюду, и петь больше не будут.
— Нет, — ответил Франсуа, — это не запрещено, но это принесет мне несчастье.
— Это почему же?
— Потому что, если первая птица, которую я слышу утром, — сова, то я всегда говорю: «Дело плохо!»
— Я, стало быть, сова. Ну что ж, сова так сова, мне все равно, как ни назови!..
И, сложив ладони ковшиком, предварительно поплевав на них в качестве необходимой меры предосторожности, Матьё издал звук, удивительно походивший на печальный, монотонный крик ночной птицы.
Франсуа даже вздрогнул:
— Да замолчи ты, зловещая птица!
— Замолчать?
— Да.
— А если я смогу тебе пропеть кое-что интересное, что ты на это скажешь?
— Я скажу, что мне некогда тебя слушать… Знаешь, окажи мне лучше одну любезность.
— Тебе?
— Да, мне… А что, ты разве не можешь оказать кому-нибудь любезность или услугу?
— Ну ладно. А что тебе надо?
— Чтобы ты подержал мое ружье перед огнем, посушил его, пока я сменю гетры.
— Ишь ты, он сменит гетры! Посмотрите-ка на господина Франсуа, он боится схватить насморк.
— Я не боюсь схватить насморк, а просто хочу надеть форменные гетры, потому что может приехать инспектор и я хочу, чтобы у меня в одежде все было как положено… Ну, так как? Просушишь мое ружье?
— Ни твое, ни чье-нибудь другое… Пусть мне лучше размозжат голову камнем как какому-нибудь вонючему зверю, если я с сегодняшнего дня и до того, как меня зароют в землю, когда-нибудь возьму в руки хоть какое-нибудь ружье.
— Ну что же, по тому, как ты им управляешься, можно сказать, что потеря будет невелика, — сказал Франсуа, открывая кладовку под лестницей, где хранилась целая коллекция всевозможных гетр, чтобы отыскать свои среди тех, что принадлежали Ватренам.
Матьё следил за ним левым глазом, в то время как правый, казалось, был устремлен исключительно на последнюю картофелину, которую он медленно и неумело чистил. Потом он проворчал сквозь зубы:
— Скажи-ка! И чего это ради мне лучше управляться с ружьем, если я им пользуюсь для других? Пусть только выпадет случай употребить его себе на пользу, и тогда посмотрим, кто из нас больший неумеха!
— А что же ты тогда возьмешь в руки, если не ружье? — спросил Франсуа, поставив ногу на стул и застегивая длинные гетры.
— А в руки я возьму свое жалованье! Господин Ватрен мне, правда, предлагал стать внештатным лесником, но, раз надо служить его высочеству бесплатно целый год, или два года, или даже три, нет уж, спасибо! Я отказался… Лучше уж пойду служить в дом к господину мэру!
— Как это! Слугой к господину мэру? Господину Руазену, торговцу лесом?
— К господину Руазену, торговцу лесом, или к господину мэру, — это одно и то же.
— Ладно! — буркнул Франсуа, продолжая застегивать гетры и передернув плечами в знак презрения к лакейской службе.
— Тебе это не нравится?
— Мне? Мне все равно! Я вот только думаю, что тогда станется со старым Пьером?
— Ну, наверное, уйдет, — беззаботно откликнулся Матьё.
— Уйдет? — повторил Франсуа, и в его голосе послышался интерес к старому слуге, о котором шла речь.
— Наверное. Поскольку я определяюсь на его место, надо, стало быть, чтобы он ушел, — продолжал Матьё.
— Да как это можно? Он служит в доме Руазена вот уже двадцать лет!
— Тем более, значит, теперь очередь кого-нибудь другого, — злобно усмехнулся Матьё.
— Эх, и скверный же ты парень, Косой! — воскликнул Франсуа.
— Во-первых, — возразил Матьё с глуповатым видом, какой он умел на себя напускать, — меня зовут иначе. Это пса, которого ты сейчас отвел в будку, так зовут.
— Да, твоя правда. И когда он узнал, что тебя иногда случайно называют одним с ним именем, он заявил протест. Бедное животное утверждало, что оно-то неспособно, будучи ищейкой папаши Ватрена, потребовать место ищейки господина Девиолена, хотя дом инспектора уж, конечно, лучше, чем дом лесничего. И вот с тех пор, хоть ты и косишь по-прежнему, Косым тебя больше не зовут.
— Смотри-ка! Так я, значит, скверный парень, так ты считаешь, а, Франсуа?
— И я так считаю, и все так считают.
— И почему же это?
— Неужели тебе не совестно отбивать хлеб у несчастного старого Пьера? Что с ним будет, когда он лишится места? Ему придется просить милостыню, чтобы прокормить жену и двоих детей!
— Ну и что же, ты ему станешь платить пенсию из тех трехсот пятидесяти ливров, что ты получаешь каждый год как помощник лесничего!
— Пенсию я ему платить не буду, потому что на эти триста пятьдесят ливров я прежде всего должен кормить свою мать. Но у меня в доме всегда, когда он только захочет туда зайти, он найдет тарелку лукового супа и кусок кроличьего жаркого — обычной еды лесника… Слугой к господину мэру! — продолжал Франсуа, застегнув наконец свои гетры. — Как это на тебя похоже — сделаться слугой!
— Подумаешь, что здесь ливрея, что там, — возразил Матьё. — Только та, в кармане которой звенят денежки, мне милее той, у которой карман пустой.
— Э, погоди-ка, друг! — воскликнул Франсуа, но, спохватившись, поправился: — Нет, я ошибся, ты мне вовсе не друг… Так вот, наша одежда — это вовсе не ливрея. Это форма.
— Дубовый лист на воротнике или галун на рукаве, какая разница! — покачнул головой Матьё, выражая свое полнейшее безразличие и к той и к другой одежде.
— Может, и так, — возразил Франсуа, не желая оставить за своим собеседником последнего слова, — да только тот, у кого дубовый лист на воротнике, работает, а тот, что с галунами на рукаве, бездельничает. Разве не из-за этого ты предпочитаешь галун дубовому листу, а, лодырь?
— Может, и так, — согласился Матьё.
И вдруг, словно эта мысль только что пришла ему в голову, он произнес: