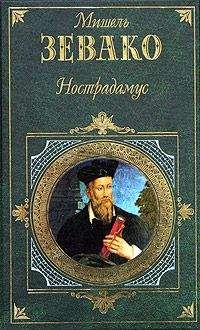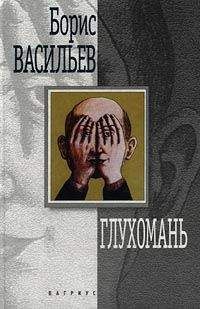Борис Лавренёв - Гравюра на дереве
— Ты никуда не уходишь утром?
— А что? — спросила Елена.
— Я хочу проехать на выставку в зале поощрения художеств. Я вчера побывал там мимоходом, и мне понравилась одна работа. Хочу разглядеть ее повнимательней. Может, проедешь со мной?
Елена сделала гримаску:
— Картинки?.. Мне нужно к докладу подготовиться. Завтра на «Красной игле» ответственное выступление.
— Но успеешь же вечером... Тебе не вредно встряхнуться.
— Ну, если тебе это доставит удовольствие, — не возражаю. Только недолго. Вряд ли там есть что-нибудь доящее внимания. Буржуазные игрушки! Пустая забава!
— Ладно! — сказал Кудрин. — Тогда я сейчас вызову машину на полдень.
Он пошел в кабинет, но в дверях неожиданно обернулся.
— Кстати, — внезапно спросил он, вспомнив шамуринскую гравюру, — ты читала «Белые ночи» Достоевского?
— Нет, — ответила Елена, — А почему ты спрашиваешь?
— Ничего, просто так, — сказал Кудрин, закрывая дверь кабинета.
Он позвонил в гараж, заказал машину, положил трубку и несколько секунд постоял, как будто силясь вспомнить что-то нужное. Ему захотелось, прежде чем ехать на выставку, перечитать то место повести, к которому относилась гравюра. В молодые годы он читал повесть, но она как-то слабо удержалась в памяти. Дома Достоевского не было, но Кудрин вспомнил, что площадкой ниже живет молодой литературовед и критик, доцент университета Дергачев. Кудрин вышел на лестницу, спустился на этаж и позвонил, как было указано на двери, тремя долгими звонками. Дверь открыл сам Дергачев, пухлый, холеный, немного косящий одним глазом. Узнав о цели прихода Кудрина, он любезно вынул из книжного шкафа
томик Достоевского и вручил гостю. Поблагодарив, Кудрин вернулся к себе и, сев в кресло у окна, стал искать нужное место. Найдя его, он медленно, вполголоса прочел его себе вслух:
«...Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно! — подумал я,— верно, она о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да! я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось. И как я ни робок с женщинами, по ведь это была такая минута!.. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес «Сударыня!» - если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я приискивал слово, девушка очнулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички».
Кудрин дочитал и положил книгу на подоконник. Это окно кабинета выходило на соседний пустырь. За пустырем ровной, скучной стеной тянулись дома; над домами в голубоватой дымке мерцала золотом игла Петропавловской крепости, За ней, невидимая из окна, широко разлеглась меж берегов Нева, а дальше в центральной части города, окаймленные чугунными кружевами решеток, протекали речки и каналы петровского парадиза.
Кудрин закрыл глаза, и в красноватой мгле с жестокой ясностью перед ним появилась черная решетка, серо-сиреневая, стылая вода, глухая стена с трупными пятнами отсырелой штукатурки. Беловато-зеленым пятном мелькнуло скорбное лицо девушки. Он почти физически ощутил этот траурный, странный пейзаж.
Внизу заревела автомобильная сирена. Водитель давал знать о себе. Кудрин позвал Елену, подал ей пальто, и они спустились на солнечную, весело шумящую улицу.
4
На выставке, как и предполагал Кудрин, народу, несмотря на праздничный день, было немного. Графика не пользовалась популярностью у зрительской массы. В большом зале едва насчитывалось три десятка посетителей.
Присматриваясь к ним, Кудрин заметил среди нескольких обывателей неопределенного вида и профессии, то рассеянно, то растерянно глядящих на экспонаты, — группку стриженных по-мальчишески девчушек, в коротеньких по моде юбочках, открывающих худосочные питерские. ноги. Кудрин с первого взгляда узнал их. Это были представительницы той категории «восторженных», которая обожает всякое искусство. Обожает бестолково, Но совершенно бескорыстно и пламенно. Таких девушек всегда можно было встретить на премьерах театров, на концертах отечественных и иностранных музыкальных знаменитостей, в студиях художников, в обществе молодых длинноволосых лирических поэтов, всюду, где так или иначе склонялось слово «искусство». Не сеющие и не жнущие, питающиеся бог знает чем, а главным образом воздухом, эти девушки порхали везде, как беспечные птицы, гордясь своей соприкосновенностью с искусством и его представителями, с беспечной легкостью и бездумностью становясь мимолетными подружками поэтов и художников, не.претендуя ни на что, кроме полусвета задрапированной лампочки в мастерской молодого художника или романтическом логове поэта. Несколько бутербродов, рюмка недорогого вина, порция пылких поцелуев давали им полную радость бытия.
Они кучкой блуждали по выставке, чирикая по-воробьиному, о художниках говорили с почтительной нежностью, называя своих друзей уменьшительными именами: «Это Васина работа прошлой осени» или «Петруша при мне резал эту гравюрку».
Их блужданье и чириканье напомнило Кудрину Париж. Такие же шаловливые, беззаботные, ничего не требующие мидинетки прибегали в обеденный час в промозглые парижские мансарды, принося своим рыцарям, которые питались чаще всего запахом макового масла и надеждами на славу, более питательные субстанции, вроде жареных каштанов или нескольких сарделек, добытых на трудовые крохи.
Они также называли своих возлюбленных уменьшительными именами и гордились каждым их успехом, бегая по мастерским и выставкам, готовые вцепиться в глаза каждому, кто посмеет неодобрительно отозваться о кубической мазне Ги или Октава.
И Кудрин с легкой грустью и нежностью вспомнил, что, когда он выходил после трудного рабочего дня из электромеханической мастерской, на Авеню де ла Мотт Пике под газовым фонарем, кутаясь в пальтишко на рыбьем пуху от вечернего тумана над Сеной, его самоотверженно ожидала каждый вечер такая же ласковая подружка, худенькая большеротая девчушка со странным для русского слуха именем Селимены. Она вела его в таверну «L'Аmiral», где они наспех закусывали, потом провожала до мастерской мэтра. Оставив Кудрина там, Селимена уходила к нему в мансарду готовить ужин.
И когда Кудрин возвращался, измазанный углем и красками, Селимена заботливо поила его жидким кофе, гасила лампочку и беззаботно ныряла под истертое одеяло.
Эта веселая, как птичка, ласковая девушка прошла рука об руку с Кудриным через годы его парижской жизни, и когда он уезжал в семнадцатом году, сорванный с места ветром революции, она провожала его на вокзале и плакала в рукав его пальто, как жена и товарищ. Тронутый этим воспоминанием, Кудрин искоса посмотрел на шедшую рядом с ним Елену Она шла размашистой мужской походкой, смотря на экспонаты выставки неподвижным; сонно-равнодушным взглядом, в котором выражалось нескрываемое презрительное недоумение: к чему все это?
Она считала, что искусство — удел людей, неспособных к полезной созидательной работе. Такой работой она считала ту, которую делала сама. Все, лежащее за пределами этой работы, было достойно в лучшем случае хронической усмешки, в худшем — презрения. К живописи и скульптуре она относилась еще со снисхождением, поскольку эти жанры можно было утилизировать для повседневных задач агитации и пропаганды. Музыка, опера, балет были ей совершенно непонятны и чужды.
Среди выставленных работ ее внимание и одобрение вызывали те, которые раздражали и злили Кудрина, рождая в нем отвращение.
Ее пренебрежительный взгляд оживился и даже утратил сонное выражение, когда она увидела на одном из стендов большой рисунок углем, под которым стояла подпись, знакомая Кудрину по бесконечным репродукциям выполненных художником портретов вождей революции. По ремесленному бездушию и фотографической зализанности эти портреты очень напоминали лица на вывесках провинциальных парикмахеров, но инстанции, которые занимались снабжением различных учреждений и организаций такими портретами, печатали их в сотнях тысяч экземпляров, и уныло унифицированные на один лад лица смотрели со стен дворцов культуры, театральных фойе, клубов, залов заседаний, не узнаваемые даже теми, кого они изображали.