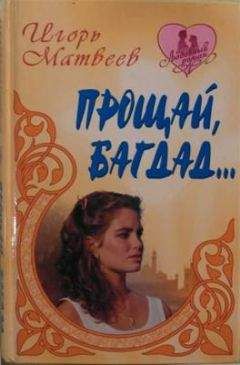Борис Акунин - Любовница смерти
Тот приложил палец к губам, но она сердито сдвинула брови, и он почти беззвучно прошелестел:
— Да. И наверняка гениальные. Ведь никто лучше него не понимает поэзию.
Ответ показался ей странным:
— «Наверняка»?
— Свои стихи он никому не показывает. Говорит, что они пишутся не для людей и что перед Уходом он всё написанное уничтожит.
— Какая жалость! — вырвалось у нее громче нужного.
Просперо опять взглянул на гостью, и опять ничего не сказал.
— Я понял, — улыбнулся он Лорелее ласковой и печальной улыбкой. — Понял.
Та просияла, а дож повернулся к аккуратному, тихому человечку в пенсне и с бородкой клинышком.
— Гораций. Ты обещал, что сегодня наконец придешь со стихами. Ничего не поделаешь. Ведь тебе известно, что Невеста допускает к Себе только поэтов.
— Гораций врач, — сообщил Петя. — Вернее, прозектор — режет трупы в анатомичке. Поступил на место Ланселота.
— А что случилось с Ланселотом?
— Отравился. И компанию с собой прихватил, — непонятно ответил Петя, но расспрашивать было не ко времени — Гораций приготовился читать.
— Я, собственно, впервые имею дело с поэзией… Изучил руководство по стихосложению, очень старался. И вот м-м, в некотором роде, результат.
Он смущенно откашлялся, поправил галстук и достал из кармана сюртука сложенный листок. Хотел начать, но, видно, решил, что объяснил недостаточно:
— Стихотворение по моей, так сказать, профессиональной линии… Тут даже и термины встречаются… Только вот рифма облегченная, во второй и четвертой строках, а то с непривычки очень уж трудно… После уважаемой м-м… Львицы Экстаза, мои стишки, конечно, будут тем более нехороши, но… В общем, представляю на ваш строгий суд. Стихотворение называется «Эпикриз».
Когда взрезает острый скальпель
Брюшную полость юной дамы,
Что проглотила сто иголок,
Не вынеся любовной драмы,
Не знаешь, плакать иль смеяться,
От чувства странного дрожа:
Так человеческий желудок
Похож на мокрого ежа.
Когда вскрываешь черепную
Коробку юнкера, который,
Бордель впервые посетив,
Суд над собой исполнил скорый,
Найдешь средь каши омертвелой
То, что искал. Чудесный вид:
Свинца кусочек в надбугорье,
Как жемчуг, матово блестит.
Читающий сбился, смял листок и спрятал обратно в карман.
— Я еще хотел описать легкие утопленницы, но не получилось. Только одну строчку придумал: «Средь сизой массы ноздреватой», а дальше никак… Что, господа, очень плохо, да?
Все молчали, ожидая вердикта председателя (из всех присутствующих сидел по-прежнему лишь он один).
— «Эпикриз» — это, кажется, заключительная часть медицинского диагноза, — задумчиво произнес Просперо. — А что такое «надбугорье»?
— Надбугорье — это русское название эпиталамуса, — охотно пояснил Гораций.
— У-гу, — протянул Просперо. — Вот тебе мой эпикриз: стихи ты писать не умеешь. Но ты и в самом деле заворожен многообразием ликов Смерти. Кто следующий?
— Учитель, позвольте мне! — поднял руку плечистый верзила с грубым лицом, на котором странно смотрелись широкие, по-детски наивные глаза. Уж этому-то на что Вечная Невеста, удивилась Коломбина. Ему бы плоты по Ангаре гонять.
— Дож окрестил его Калибаном, — шепнул Петя и счел нужным пояснить. — Это из Шекспира. [Коломбина кивнула: из Шекспира так из Шекспира.] Он теперь служит бухгалтером в каком-то ссудно-кредитном товариществе. А раньше был счетоводом в Добровольном флоте, плавал по океанам, но попал в крушение, чудом остался жив и в море больше не ходит.
Она улыбнулась, довольная своими физиогномистическими способностями — не так уж и ошиблась, насчет плотов-то.
— В умственном отношении полное ничтожество, инфузория, — наябедничал Петя и завистливо добавил. — А Просперо его отличает.
Калибан, громко топая, вышел на середину комнаты, отставил ногу и зычным голосом стал выкрикивать весьма странные вирши:
Остров смертиШумит океан широкий,
Синеют высокие волны.
Меж ними остров одинокий,
Весь призраками полный.
Одни лежат на песке,
И по ним ползают крабы.
Другие гуляют в тоске,
Свое мясо сыскать дабы.
Но мяса нет на костях,
Остались одни скелеты.
Внушает ужас и страх
Картина жуткая эта.
Я ночью спать не могу,
И днем я стучу зубами.
На дальнем том берегу
Хочу быть, призраки, с вами.
Будем вместе гулять, как бывало,
Скалить мертвые рты свои
И на зубчатые скалы
Заманивать корабли.
Сначала Коломбина чуть не фыркнула, но Калибан декламировал свои нескладушки с таким чувством, что смеяться ей вскоре расхотелось, а от последней строфы по коже пробежали мурашки.
Она взглянула на Просперо, нисколько не сомневаясь, что строгий судья, осмелившийся критиковать саму Лорелею Рубинштейн, не оставит от этой жалкой поделки камня на камне.
Но не тут-то было!
— Очень хорошо, — провозгласил дож. — Какая экспрессия! Так и слышишь шум океанских волн, так и видишь пенистые гребни. Мощно. Впечатляет.
Калибан просиял счастливой улыбкой, от которой его квадратная физиономия совершенно преобразилась.
— Я же говорю, любимчик, — пробормотал в ухо Петя. — И что он только нашел в этом одноклеточном? Ага, а это мой сокурсник, Никифор Сипяга. Он меня сюда и ввёл.
Настал черёд того самого некрасивого, угреватого юноши, с которым Петя давеча разговаривал.
Дож покровительственно кивнул:
— Слушаем тебя, Аваддон.
— Сейчас «Ангела бездны» прочтет, — сообщил Петя. — Я уже слышал. Это его лучшее стихотворение. Интересно, что скажет Просперо.
Стихотворение было такое:
Ангел бездныОтворился кладезь бездны.
Тьма суха и горяча.
С мерным грохотом железным
Тучей валит саранча.
Кто Божественной печали
В грешной жизни не познал,
Вмиг распознан и ужален
Мановеньем острых жал.
Серебристые копыта
Мнут податливую твердь.
Сражены, но не убиты
Призывают люди смерть.
Вожделенная награда
Ускользает, словно сон.
Смерти нет. Глядит из чада
Ангел бездны Аваддон.
Коломбине стихи очень понравились, но она уже не знала, как к ним следует относиться. Вдруг Просперо сочтет их бездарными?
Немного помедлив, хозяин сказал:
— Неплохо, совсем неплохо. Последняя строфа удалась. Но «ужален мановеньем острых жал» никуда не годится. И рифма «твердь-смерть» очень уж затаскана.
— Чушь! — раздался внезапно звонкий, сердитый голос. — Рифм к слову «смерть» всего четыре, и они не могут быть затасканы, как не может быть затаскана сама Смерть! Это рифмы к слову «любовь» пошлы и захватаны липкими руками, а к Смерти сор не пристает!
«Чушью» мнение мэтра обозвал миловидный юноша, на вид совсем еще мальчик — высокий, стройный, с капризно выгнутым ртом и лихорадочным румянцем на гладких щеках.
— Дело вовсе не в свежести рифмы, а в попадании! — не вполне связно продолжил он. — Рифмы — это самое мистическое, что есть на свете. Они как оборотная сторона монеты! Возвышенное они могут выставлять смешным, а смешное возвышенным! За чваным словом «князь» прячется «грязь», за блестящим «Европа» — низменная брань, а за жалким «хлюзда», как обзывают слабых и беспомощных людей, наоборот, таится «звезда»! Меж явлениями и звуками, что их обозначают, существует особенная связь. Величайшим первооткрывателем будет тот, кто проникнет в глубину этих смыслов!
— Гдлевский, — со вздохом пожал плечами Петя. — Ему восемнадцать лет, еще гимназию не закончил. Просперо говорит, талантлив, как Рембо.
— Правда? — Коломбина пригляделась к вспыльчивому мальчику повнимательней, но ничего особенного в нем не разглядела. Ну, разве что хорошенький. — А как его прозвище?
— Никак. Просто «Гдлевский», и всё. Он не желает зваться по-другому.
Дож на смутьяна ничуть не рассердился — напротив, смотрел на него с отеческой улыбкой.
— Ладно-ладно. По части теоретизирования ты не силен. Судя по тому, что так раскипятился из-за рифмы, у тебя в стихотворении тоже «твердь-смерть»?
Мальчик блеснул глазами и смолчал, из чего можно было заключить, что проницательный дож не ошибся.
— Ну же, читай.
Гдлевский тряхнул головой, отчего на глаза ему упала светлая прядь, и объявил:
— Без названия.