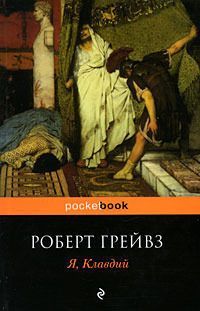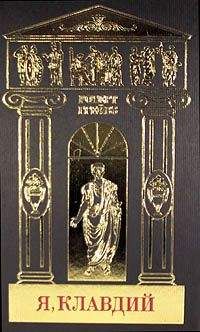Роберт Грэйвс - Я, Клавдий
Под конец Силий воскликнул:
- Сиятельные отцы, я многое мог бы сказать в свою защиту, но не скажу ничего, потому что это разбирательство ведется незаконным образом и приговор вынесен давным-давно. Я прекрасно понимаю, что настоящее мое преступление заключается в словах относительно того, что, не найди я подход к полкам в Верхней Германии, они бы присоединились к мятежу. Сейчас вы окончательно убедитесь в моей виновности - я вам вот что скажу: если бы не "подход" Тиберия к войскам в Нижней Германии, там вообще не было бы мятежа. Друзья, я - жертва алчного, завистливого, жестокого, деспотичного...
Конец его речи потонул в гуле протестов со стороны перепуганных сенаторов. Силий отдал честь Тиберию и вышел, высоко подняв голову. Придя домой, он обнял Созию и детей, передал нежный прощальный привет Агриппине, Нерону, Галлу и остальным друзьям и, зайдя в спальню, вонзил меч себе в горло.
Оскорбления по адресу Тиберия сочли свидетельством его вины. Все имущество Силия было конфисковано с обещанием, что оно пойдет на возмещение несправедливо назначенного налога, а обвинители получат четверть оставшейся собственности, как того требует закон; деньги же, отказанные ему за верность Августом, должны быть возвращены в государственную казну, поскольку они были выплачены по недоразумению. Жители провинции не отважились настаивать на своих правах, и Тиберию достались три четверти имущества Силия - к этому времени уже не было разницы между военной, государственной и императорской казной. Впервые Тиберий получил прямую выгоду от конфискации имущества и позволил оскорбление своей личности считать доказательством государственной измены.
У Созии было личное достояние, и, чтобы спасти ей жизнь и избавить ее детей от нищеты, Галл потребовал отправить ее в изгнание, а собственность разделить пополам между обвинителями и детьми. Но один свойственник Агриппины, союзник Галла, предложил, чтобы обвинители получили только четверть всего имущества - законный минимум, - добавив, что Галл - верный приверженец Тиберия, но несправедлив к Созии, ведь всем известно: когда Силий лежал на смертном одре, она упрекала его за его вероломные и неблагодарные высказывания. Поэтому Созию всего лишь отправили в изгнание. Она уехала жить в Марсель, и поскольку, узнав, что ему грозит смертная казнь, Силий тут же потихоньку передал Галлу и другим друзьям большую часть своего достояния в звонкой монете, чтобы они сохранили эти деньги для его детей, семья его отнюдь не бедствовала. Старший сын Силия, когда вырос, доставил мне немало неприятностей.
С тех пор Тиберий, раньше обвинявший людей в измене под предлогом того, что они богохульствовали по адресу Августа, стал все чаще проводить в жизнь указ, принятый в первый год его правления, о том, что любые высказывания, направленные против него самого и порочащие его доброе имя, должны считаться государственным преступлением. Он обвинил одного сенатора, которого подозревал в принадлежности к партии Агриппины, в том, что тот читал вслух бранную эпиграмму, сочиненную на него. А дело было так: однажды утром жена сенатора заметила, что высоко на воротах дома прикреплен какой-то листок. Она попросила мужа прочитать, что там написано, - он был выше нее. Сенатор медленно прочитал, разбирая по буквам:
Хоть пить вино он перестал,
Но выпивает вновь.
Он просто взял другой бокал -
В нем убиенных кровь.
Жена наивно спросила, что это значит, и он ответил: "Опасно объяснять это на людях, дорогая". Возле ворот болтался профессиональный доносчик в надежде, что, когда сенатор прочитает эпиграмму - работу Ливии, он скажет что-нибудь компрометирующее его. Доносчик тут же отправился к Сеяну. Тиберий лично подверг сенатора допросу, спрашивая, что он имел в виду под "опасно" и на кого, по его мнению, написана эпиграмма. Сенатор ходил вокруг да около и не давал прямого ответа. Тогда Тиберий сказал, что, когда он был молод, по Риму циркулировало много пасквилей, обвиняющих его в пьянстве, но впоследствии доктора предписали ему воздерживаться от вина из-за предрасположенности к подагре, и вот в последнее время опять появились клеветнические стишки, на этот раз обвиняющие его в кровожадности. Тиберий спросил обвиняемого, не были ли ему известны эти факты и не думает ли он, что в эпиграмме как раз говорится об императоре? Несчастный человек ответил, что до него доходили слухи о пьянстве императора, но он им не верил, так как они не имели под собой оснований, и никак не связывал эти поклепы с эпиграммой у себя на воротах. Тогда его спросили, почему он не доложил о прежних пасквилях сенату, как ему предписывал это долг. Сенатор ответил, что тогда, когда он их слышал, произносить или повторять какую угодно эпиграмму, сколь бы бранной она ни была, написанную против любого, пусть самого добродетельного, человека, еще не считалось преступлением; даже если грубые и оскорбительные стишки были направлены против самого Августа, вас не обвиняли в государственной измене, лишь бы вы их не печатали. Тиберий спросил, о каком времени он говорит, ведь в конце жизни Август издал закон против таких стихов. Сенатор ответил:
- Это было на третий год твоего пребывания на Родосе.
- Сиятельные, - воскликнул Тиберий, - почему вы позволяете этому субъекту оскорблять меня?
И сенатора присудили к наказанию, которому обычно подвергали самых злостных предателей: полководцев, которые за плату проигрывали битву неприятелю, и им подобных, - его сбросили с Тарпейской скалы.
Другого человека, всадника, казнили за то, что он сочинил трагедию о царе Агамемноне, в которой царица, убившая его в ванне, вскричала, замахиваясь топором:
Тиран, я мщу тебе за все -
Здесь преступленья нет!
Тиберий сказал, что под Агамемноном подразумевался он сам и приведенные строки подстрекали к его убийству. Что придало трагедии, над которой все раньше посмеивались, так нескладно и скверно она была написана, своего рода величие, ведь все ее экземпляры были изъяты и сожжены, а автор казнен.
25 г. н.э.
За этим судебным делом последовало два года спустя другое - я пишу об этом здесь, так как история с Агамемноном напомнила мне о нем - дело Кремуция Корда, который вступил в столкновение с Сеяном из-за сущего пустяка. Однажды дождливым днем, войдя в здание сената, Сеян повесил свой плащ на крючок, куда обычно вешал плащ Кремуций, и тот, придя позже него и не зная, что плащ принадлежит Сеяну, перевесил его на другой крючок. Плащ Сеяна упал на пол, и кто-то наступил на него грязными сандалиями. Сеян принялся зло мстить за это Кремуцию, и тому стало настолько противно видеть его лицо и слышать его имя, что, когда статую Сеяна установили в театре Помпея, он воскликнул: "Это погубит театр!". Поэтому Сеян указал на него Тиберию как на главного сторонника Агриппины. Но так как Кремуций был почтенный кроткий старик, у которого не было ни одного врага на свете, кроме Сеяна, и который открывал рот только в случае крайней необходимости, обвинение против него было трудно подкрепить уликами, которые мог бы, не стыдясь, принять даже наш запуганный сенат. В конце концов Кремуция обвинили в том, что он в письменном виде восхвалял Брута и Кассия, убийц Юлия Цезаря. В качестве улики был предъявлен исторический труд, написанный Кремуцием за тридцать лет до того, который сам Август, приемный сын Юлия, включил, как было известно, в свою личную библиотеку и время от времени им пользовался.
Кремуций горячо защищался против этого нелепого обвинения. Он сказал, что Брут и Кассий так давно умерли и с тех пор их поступок так часто восхвалялся историками, что, по-видимому, весь этот процесс - розыгрыш, подобный тому, которому недавно подвергся молодой путешественник в Лариссе. Этого юношу публично обвинили в убийстве трех человек, хотя жертвами его были три бурдюка с вином, висевшие у дверей лавки, которые он исполосовал мечом, приняв за грабителей. Но это судебное разбирательство происходило во время ежегодного Праздника смеха, что оправдывало все происходящее, и юноша любил выпить и уж очень был склонен пускать в ход свой меч - возможно, его и следовало проучить. Но он, Кремуций Корд, слишком стар, чтобы его выставляли подобным образом на посмешище, и сейчас не Праздник смеха, а, напротив, четыреста семьдесят шестая годовщина обнародования закона Двенадцати Таблиц, этого славного памятника законодательного гения и незыблемых моральных устоев наших предков. После чего старик ушел домой и уморил себя голодом. Все экземпляры его книги, кроме двух или трех, которые его дочь спрятала и переиздала много лет спустя, уже после смерти Тиберия, были изъяты и сожжены. Книга эта не отличалась особенными достоинствами и пользовалась незаслуженной славой.
До тех пор я говорил себе: "Клавдий, ты ничем не блещешь, и толку от тебя на этом свете мало, и жизнь твоя не очень-то счастливая - не одно, так другое, но ей, во всяком случае, ничто не грозит". Поэтому, когда старый Кремуций, которого я очень хорошо знал - мы часто встречались и болтали в библиотеке, - лишился из-за такого обвинения жизни, я был до смерти напуган. Я чувствовал себя как человек, находящийся на склоне вулкана, когда тот внезапно начинает извергать пепел и раскаленные камни. Это было мне предостережением. В свое время я писал куда более крамольные вещи, чем Кремуций. В моей "Истории религиозных реформ" было несколько фраз, которые вполне могли послужить основой для обвинения. И хотя мое имущество было очень незначительно и доносителям не имело смысла ставить мне что-нибудь в вину, чтобы получить его четвертую часть, я отдавал себе отчет в том, что все жертвы последних процессов о государственной измене были друзьями Агриппины, а я продолжал посещать ее всякий раз, когда приезжал в Рим. Я не был уверен в том, насколько мое родство с Сеяном послужит мне защитой.