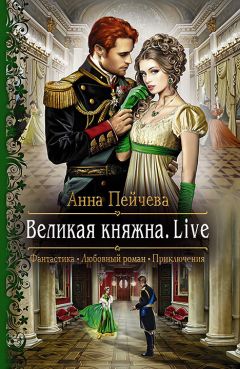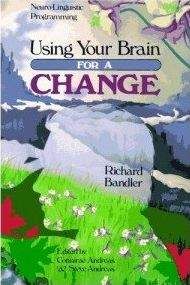Борис Акунин - Пелагия и чёрный монах
Девица воспитания самого строгого, самурайского, вдвое меньше меня, чуть не вчетверо моложе, я в её глазах волосатый монстр, и к тому же лишён главного своего оружия, языка — объясняться мы с ней вовсе не могли, ни по-каковски.
Что ж, задержался в Токио, стал у чиновника этого чаще в доме бывать. Подружились. О политике рассуждаю, кофе с ликёром пью и к дочке приглядываюсь. Её, видно, только начали к гостям выпускать — очень уж дичилась. Как, думаю, к этакой лаковой шкатулочке ключик подобрать?
Ничего, подобрал. Опыта не занимать было, а пуще того — знания женского сердца.
Обычным образом понравиться я ей не мог, очень уж непохож на мужчин, которых она привыкла видеть. Значит, на непохожести и сыграть можно.
Сказала мне как-то мамаша, в шутку, что дочка меня с медведем сравнивает — очень, мол, большой и в бакенбардах.
Что ж, медведь так медведь.
Купил в порту у моряков живого медвежонка — бурого, сибирского — и привёз ей в подарок. Пускай к волосатости попривыкнет. Мишка славный был, озорной, ласковый. Моя японочка с утра до вечера с ним игралась. Полюбила его очень: гладит, целует, он её языком лижет. Отлично, думаю. Зверя полюбила, так и меня полюбит.
Она и вправду на дарителя стала уж по-другому смотреть, без опаски, а с любопытством. Вроде как сравнивает со своим любимцем. Я нарочно ходить стал вперевалочку, бакенбарды попушистее расчёсывать, голосу зычности прибавил.
Вот уж и друзья мы с ней стали. Она меня Куматяном прозвала, это „медведь“ по-ихнему.
Дальше что ж. Обычное дело — томится девочка от праздности, от телесного цветения. Хочется ей нового, неизведанного, необычайного. А тут экзотичный чужестранец. Всякие занятные штучки показывает, со всего света привезённые. Открыточки с Парижем да Петербургом, небочёсы чикагские. А главное, после мишкиной шерсти перестала она мною в физическом смысле брезговать. То за руку возьмёт, то по усам погладит — любопытно ей. А девичье любопытство — материал горючий.
Ну да не буду подробности рассказывать, неинтересно. Главная трудность в том заключалась, чтоб мне с ней, выражаясь по-научному, в один биологический вид попасть, внутри которого возможно скрещивание. А как мы с ней стали уже не японочкой и заморским медведем, а невинной девицей и опытным мужчиной, дальше пошло всё обыденное, многократно мною прежде осуществлённое.
В общем, когда из Японии отплывали, японочка со мной была — сама напросилась. Так родители, поди, и не узнали, куда их дочка исчезла.
До Владивостока любил я её сильно. И после, когда железной дорогой ехали, тоже. Но на середине Сибири мне её детская страсть прискучивать стала. Ведь даже не поговоришь ни о чём. Она же, наоборот, только пуще любовью распалялась. Бывало, ночью проснусь — не спит. Подопрётся локтем и смотрит, смотрит на меня своими щёлками. В женщинах любовь жарче всего полыхает, когда они чувствуют в тебе начинающееся охлаждение, это давно известно.
Когда к Питеру подъезжали, я уж видеть её не мог. Голову ломал, куда сплавить? Назад к родителям? Так ведь то не обычные papan и maman, а самураи. Ещё порешат девчонку, жалко. Куда ж её? Языков кроме своего птичьего наречия она не знает. Отступного дать? Не возьмёт, да и в покое не оставит, больно прилипчива. Делать ничего не умеет, кроме того, чему я её усердно в каюте да в купе обучал.
От этой мысли и решение нашлось. Слышал я от одного поездного попутчика, что за время моего отсутствия в Петербурге новое заведение появилось, некоей мадам Поздняевой. Фешенебельный бордель с барышнями, привезёнными из многих стран: тут тебе и итальянки, и турчанки, и негритянки, и аннамитки — кто хочешь. Большим успехом среди петербуржцев пользуется.
Я съездил к Поздняевой для знакомства. Убедился, что обхождение с девушками хорошее. Хозяйка сказала, что часть заработка кладёт каждой в банк, на особый счёт. На следующее же утро сдал свою малютку хозяйке с рук на руки. Для почину положил на её имя тысячу рублей.
Только не пошли японочке эти деньги впрок. Когда поняла, куда я её привёз и что обратно забирать не намерен, прыгнула из окна головой вниз, на мостовую. Побилась там немножко, как выброшенная на берег рыбка, да и затихла.
Я, как узнал, конечно, опечалился, но не то чтобы очень сильно, потому что к тому времени успел новой целью увлечься, самой недостижимой из всех.
Целью этой была не кто иная, как та самая мадам Поздняева, владелица заведения. Когда я с ней про японочку переговоры вёл, большое она на меня впечатление произвела. Немолодая уже была, лет сорока, но гладкая, неукоснительно за собой следящая и, по глазам понятно, всё на свете перевидавшая. Каждого мужчину насквозь видит и ни одного в грош не ставит. Сердце — камень, душа — пепелище, ум — арифметическая машина.
Смотрел я на эту устрашающую особу и понемногу распалялся. Всякие меня женщины любили, а такая, холодная да жестокая, никогда. Или уж она вовсе на любовь не способна? Тем заманчивей в этой золе покопаться, не до конца угасший уголёк отыскать и бережно, тихонечко, раздуть его, разогреть до всепожирающего пламени. Если получится, вот это будет истинный подвиг Геракла.
Не один месяц у меня на осаду сей Трои ушёл. Тут для начала потребно, рассудил я, чтобы она на меня иначе, чем на прочих мужчин, взглянула. Наш брат для госпожи Поздняевой делился на две категории: те, от кого нельзя ничем поживиться в силу возраста, бедности или болезни, и те, кто хочет и может платить за разврат. Первые для неё не существовали вовсе, а вторых она презирала и нещадно обирала. Как я после выяснил, и шантажом не брезговала (были у неё в заведении всякие хитрые устройства для подглядывания и фотографирования).
Значит, нужно было занять место между двумя мужскими категориями: мол, поживиться за мой счёт можно, но продажной любви мне не нужно. А ещё подобные женщины, кто огонь с водой прошёл и всего сам достиг, очень на тонкую лесть падки.
И повадился я ездить в её вертеп чуть не каждый день. Но к барышням не ходил, сидел с хозяйкой, вёл умные, циничные разговоры в том духе, какой мог ей понравиться. И всякий раз деньги оставлял — щедро, вдвое против обычной платы.
Она в недоумение пришла. Всё никак не могла меня к определённому мужскому разряду пришпилить. Потом вообразила, будто я в неё влюблен, и сразу преисполнилась ко мне ещё большим презрением, чем к прочим своим клиентам. Как-то раз со смехом говорит: „Что это вы так миндальничаете? Удивляюсь я на вас. На застенчивого непохожи. Я, слава Богу, не инженю какая-нибудь. Коли хотите ко мне в постель, так и скажите. Вы столько денег переплатили, что я из одной учтивости вам не откажу“. Я вежливо поблагодарил, приглашение принял, и отправились мы в её спальню.
Странное получилось любовное свидание: оба друг друга своим искусством впечатлить хотят, и оба холодны. Она — потому что давно уж выгорела вся. Я — потому что мне от неё другое нужно. Под конец, обессилев, она сказала: „Не пойму я вас“. И это был первый шаг к победе.
Ходить я к ней после того не перестал, но в спальню не напрашивался, а она не приглашала. Приглядывалась ко мне, всматривалась, будто хотела что-то давно позабытое выискать.
Стал её понемногу о прошлом расспрашивать. Не о женском, упаси Боже. О детстве, о родителях, о подружках гимназических. Нужно было, чтоб она вспомнила иное время, когда в ней ещё душа и чувства не омертвели. Мадам Поздняева сначала отвечала коротко, неохотно, но потом стала разговорчивей — только слушай. Уж что-что, а слушать я умел.
Так я вторую ступеньку преодолел, доверие её завоевал, а это само по себе было свершением не из малых.
И когда она меня в свой будуар во второй раз позвала, несколько недель спустя, то вела себя уже совсем по-другому, без механистики. В конце же вдруг взяла и расплакалась. Ужасно сама удивилась — говорит, тринадцать лет ни единой слезинки уронить не могла, а тут на тебе.
Такой любви, какой меня Поздняева одарила, я никогда прежде не знал. Будто дамбу какую прорвало, и подхватило меня потоком, и понесло. Это было истинное чудо — наблюдать, как мёртвая душа оживает. Словно в засохшей пустыне из песка, из растрескавшейся земли вдруг забили чистые ключи, полезли пышные травы, и раскрылись невиданной красоты цветы.
Бордель свой она закрыла. Деньги, сводничеством накопленные, девушкам раздала, отпустила их на все четыре стороны. Фототеку свою зловещую истребила. А сама переменилась так — не узнать. Помолодела, посвежела — ну прямо девочка. С утра всё пела, смеялась. И плакала, правда, тоже часто, но без горечи — просто выходили нерастраченные за столько лет слёзы.
И я её любил. Никак не мог на дело своих рук нарадоваться.
Месяц радовался, два.
На третий радоваться устал.
Как-то утром (она спала ещё) вышел из дому, сел в фиакр и на вокзал. В Париж укатил. А ей оставил записку: мол, квартира до конца года оплачена, деньги в шкатулке, прости-прощай.