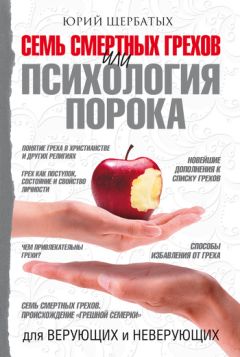Андрей Воронин - Рукопись Платона
— Вяжи ее, щербатый, — услышала она знакомый сиплый голос. — Да пасть заткни, не то орать примется.
В черно-серебристом лунном сумраке она увидела, как лохматая фигура метнулась к ней от двери, держа наготове веревку. Шарящая в поисках какого-нибудь оружия ладонь Марии Андреевны наткнулась на что-то продолговатое, плоское и сомкнулась на фигурной рукоятке из слоновой кости раньше, чем княжна успела сообразить, что именно подвернулось ей под руку. Щербатый Иван навалился на нее сверху, обдавая кислым запахом грязи и нищеты. Шершавая, колющаяся волокнами веревка коснулась ее щеки; княжна коротко взмахнула рукой, и костяной ножик для разрезания бумаги глубоко вонзился в жилистую шею щербатого Ивана.
Разбойник захрипел, выкатив серебристые от лунного света белки глаз; горячая кровь, хлынувшая из артерии, разрубленной изящной костяной безделушкой, окатила лицо и шею Марии Андреевны, заставив ее содрогнуться от отвращения. Ножик сломался у самой рукояти с негромким, но отчетливым щелчком; застонав от напряжения, княжна сбросила с себя бьющееся в мучительных конвульсиях тело, перепрыгнула через него, метнулась к двери и, как на каменную стену, налетела на широкую грудь Еремы.
Бородач встретил ее хлестким ударом по лицу, нанесенным тыльной стороной ладони. От этого удара княжна отлетела в угол комнаты и упала на пол, чувствуя, как немеет лицо и как хлынувшая из носа кровь смешивается с кровью убитого ею бандита.
— Майн готт! — услышала она еще один знакомый голос. — Доннерветтер, нельзя же так! Не смейте ее бить, она выше вас по происхождению!
— Молчи, немчура, не то и сам схлопочешь, — сипло отозвался одноухий. — Да я ее и не бил вовсе, а только хлопнул маленько, чтоб потише себя вела. Гляди-ка, чего она со щербатым сделала! Все, отгулял щербатый. Спасибо хоть, что не мучился...
— Майн готт!
— Чего майн готт? Помогай вот, после руками махать будешь, успеешь еще...
Княжну бесцеремонно связали, забив рот самодельным кляпом. Кляп отчаянно вонял псиной, и княжна сосредоточила все свои силы на том, чтобы мысленно отстраниться от этого запаха, перестать его чувствовать, — в противном случае, она знала, ей предстояло умереть, захлебнувшись собственной рвотой. Ерема рывком поставил ее на ноги; княжна качнулась, но устояла. По верхней губе все еще текла теплая густая кровь, потихонечку пропитывая кляп.
— О майн готт! — снова воскликнул впечатлительный тевтон, который сегодня, похоже, позабыл все остальные слова.
— Давай, сиятельство, — легонько подталкивая княжну между лопаток, просипел Ерема, — шевели ногами. Али тебя на плече снести, как куль с отрубями?
Помедлив секунду, княжна двинулась к двери — не потому, что испугалась, а потому лишь, что мысль о прикосновении грязных лап этого чудовища была ей ненавистна. Кроме того, она когда-то прочла, а позже не раз убеждалась на опыте, что из каждого прожитого мгновения вырастает павлиний хвост вероятностей. То, что сейчас казалось безнадежным, через минуту могло измениться до неузнаваемости; иными словами, пока ты жив, всегда остается надежда.
Ее провели по коридору, посреди которого плавало в луже крови тело часового. На ступеньках лестницы лежал дворецкий с размозженным черепом; подсвечник, которым он был убит, валялся тремя ступеньками ниже. Княжна видела подпертую суковатым поленом дверь людской и крыльцо, поперек которого распластался еще один часовой. У ворот конюшни плоским мешком лежало тело конюха; из кустов рядом с калиткой торчали сапоги, недавно подаренные княжною сторожу. Судя по всему, часовому на заднем крыльце тоже досталось, ибо Хесс и Ерема передвигались по двору свободно, никого не опасаясь. Одноухий в два счета заложил карету; княжна воспрянула было духом, но рук ей так и не развязали, а посему укрытое в экипаже оружие осталось для нее недоступным. Она напряглась, пробуя путы на прочность, но тщетно: Ерема был мастером своего дела, и с таким же успехом княжна могла пытаться разорвать стальные прутья медвежьей клетки.
Набросив поверх своих лохмотьев ливрею, испачканную кровью, Ерема взгромоздился на козлы. Ворота уже были открыты; Хесс забрался в карету и сел напротив княжны, молитвенно сложив перед собою руки.
— Это не то, что вы думаете, фройляйн Мария, — горячо зашептал он. — Майн готт, какой ужас, какое гнусное варварство! Поверьте, меня заставили сотрудничать под страхом неминуемой и весьма мучительной смерти, и я действовал против собственной воли, уступая грубой силе...
Княжна бросила на него равнодушный взгляд и отвернулась к занавешенному окну. Потом щелкнул бич, раздался сиплый голос одноухого, погонявший лошадей, и карета тронулась, унося княжну Вязмитинову навстречу судьбе.
Глава 15
Завал был разобран, пол под ним тщательно расчищен, дабы, упаси боже, не пропустить какой-нибудь завалявшейся монетки, перстенька или блестящего камешка. Вскрытая давним взрывом потайная ниша была пуста; чтобы окончательно в этом убедиться, Хрунов вошел внутрь и осветил все углы фонарем. Рука его будто сама по себе протянулась к грубой каменной кладке, намереваясь по ней постучать, но поручик вовремя поймал себя на этом и усилием воли опустил руку: отыскав клад, было бы просто смешно продолжать барабанить по стенкам в поисках тайников. Это уже была привычка, граничившая с одержимостью; покидая нишу, Хрунов почувствовал острый укол сожаления, как будто уходил, не закончив работы. Как будто там, в стенах, и впрямь что-то осталось.
Сундуки стояли в ряд вдоль стены коридора. Их было семь; крышки на шести были опущены: заглянув внутрь и убедившись, что добыча превосходит самые смелые ожидания, поручик велел закрыть эти заплесневелые гробы. Рядом, на расстеленном плаще, грудой лежало то, что удалось собрать на полу, — монеты старинной чеканки, среди коих попадались редчайшие экземпляры с Востока и даже из Африки, драгоценные перстни, ожерелья и диадемы, золотые кубки, блюда, потиры; поверх сундуков были поставлены тяжелые ларцы, изукрашенные резьбой и инкрустацией. В каждом из них под массивной крышкой лежало целое состояние.
Седьмой сундук — огромный, неподъемный, заметно поврежденный сыпавшимися со свода камнями — стоял немного в стороне от первых шести с откинутою крышкой, из-под которой буйно выпирали набросанные кое-как книги в заплесневелых и покоробленных кожаных переплетах, свитки с остатками болтавшихся на шнурах печатей и просто разрозненные листы старого пергамента, покрытые порыжелой вязью старославянских и греческих букв. В этот сундук Хрунов велел своим людям складывать все находки, которые хотя бы отдаленно напоминали пергамент или бумагу, что и было исполнено — без особого рвения, но тщательно, ибо шутить поручик не любил.
Присев на один из сундуков, Хрунов поставил подле себя фонарь, вынул из кармана полупустой портсигар и закурил. Удивительно, но, достигнув цели, он не испытывал ничего, кроме усталости, опустошения и острого желания поскорее выбраться из мрачного подземелья на вольный воздух. Слишком долго он ползал по пыльным каменным норам, слишком долго мечтал о сокровище, чтобы теперь, когда оно лежало у его ног, испытывать радость, не говоря уже о бурном восторге. Ну, сокровище и сокровище — золотишко, серебро, камешки... Думай теперь, как вытащить его отсюда и где схоронить — так, чтобы сам мог в любой момент до него добраться, но чтобы при этом в твои закрома не запустил лапу какой-нибудь умник...
Поручик устало курил, изредка поглядывая направо, где в глухом тупике коридора аккуратным штабелем были сложены дубовые бочонки, серые от известковой пыли. Курить, сидя в нескольких шагах от порохового склада, было довольно занятно — вернее, было бы, если бы Хрунов испытывал недостаток в острых ощущениях. Но поручик сотни раз бывал в ситуациях много более опасных, чем эта, и бочонки с порохом сейчас волновали его гораздо меньше, чем часы, тикавшие у него в кармане. Время бежит, приближая рассвет, а восходящее солнце, черт бы его побрал, не задобришь златом и не остановишь меткой пулей — хоть тресни, не остановишь. Оно все равно взойдет, и ты поневоле окажешься на ярком свету посреди ополчившегося на тебя, желающего твоей смерти города — один, с грудой бесполезного золота, малой толики которого хватило бы, чтобы скупить весь этот город целиком, и с горой пороха, достаточной для того, чтобы перестрелять все его население.
Усилием воли Хрунов подавил в себе желание снова посмотреть на часы. Время близилось к полуночи, и волноваться, по большому счету, пока было не о чем — щербатый Иван, Ерема и чертов немец, оказавшийся ко всему еще и иезуитом, должны были вот-вот вернуться, и не одни, а с княжной Вязмитиновой. Княжна была последним, что удерживало Хрунова в городе, и даже усталость и желание поскорее убраться отсюда не могли заставить его отказаться от мести. Увы, именно княжна была причиной снедавшего поручика беспокойства: если бы Ерема отправился похищать градоначальника, генерала какого-нибудь или вообще любого из городских толстосумов, Хрунов был бы спокоен. Но речь шла о княжне Вязмитиновой, а сия барышня во все времена умела преподнести сюрпризец, да такой, что волосы дыбом становились и опускались руки.