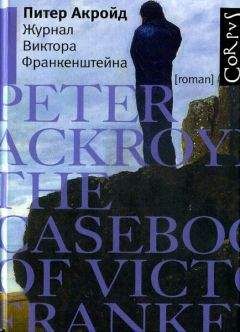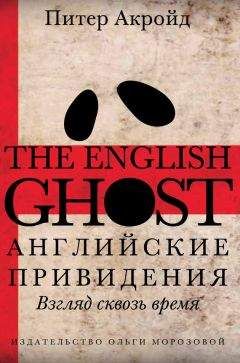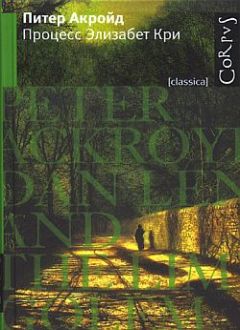Питер Акройд - Хоксмур
— Эй! Эй! — Могло показаться, будто голос идет откуда-то изнутри комнаты, и он, проснувшись, поначалу не понял, что услышал. — Мистер Хоксмур!
Он выскочил из постели, крича:
— Что такое? Что случилось? — а потом съежился у двери спальни, привалившись к ней всем телом на случай, если миссис Уэст попытается войти.
— У вас дверь открыта, а я же не знаю, что и как. Я думала, вы уезжаете… — Наступила пауза, потом она спросила: — Вы как, в приличном виде?
Соседка по-прежнему стояла у двери, по которой он готов был застучать кулаками от ярости.
— Минутку! — прокричал он и с удивлением обнаружил, что так и не снял пальто и ботинки. Где он побывал во сне? Распахнув дверь, он бросился мимо нее в ванную, где открыл кран и пустил холодную воду; уже собравшись сполоснуть лицо, он вместо этого стал глядеть на поверхность бегущей воды. — Я действительно уезжаю, — крикнул он ей. — Дайте срок.
— Куда поедете?
— А, не знаю, — пробормотал он. — Куда вообще ездят?
Он услышал, как она ходит по квартире. Тихонько выйдя из ванной, он застал ее за разглядыванием листков белой записной книжки, которые он приколол к стенам своей гостиной. Он заметил, что ее волосы еще не потеряли блеска, и хотел было погладить их, как вдруг заметил, что ей приходится поворачивать все тело целиком, чтобы перейти от одного рисунка к другому.
— Что у вас с шеей? — Он попытался скрыть отвращение.
— А, так, ничего. Артрит это у меня. Я уж привыкла. — Она продолжала рассматривать рисунки с надписями под ними, стихами и фразами. — А что это у вас такое? Это ваши?
— Мои? Нет-нет, это не мои. — Он сделал попытку засмеяться. — Просто история, над которой я работаю. Пока не знаю, какой там конец.
— Мне нравится, когда конец хороший.
— Это все равно, что сказать: мне нравится, когда смерть хорошая.
Озадаченная этим, она лишь пробормотала, поворачиваясь, чтобы уйти:
— Правда?
— Но скажите, миссис Уэст, что вы в них видите на самом деле? — Он преградил ей дорогу к двери. — Вы ничего странного в них не видите? — В его голосе звучал искренний интерес.
— О Господи, да что вы меня-то спрашиваете? Ничего я не вижу.
Вид у нее был встревоженный.
— Ну что вы так близко к сердцу все принимаете, — сказал он, — я же просто спросил.
При слове «сердце» она затрепетала, мгновенно избавившись от груза прожитых лет.
— Вы кто по знаку, мистер Хоксмур?
— По знаку? Я про такое никогда не слышал.
— Ну, знаете, знаки. Знаки Зодиака. Готова спорить, что Рыбы, как и я. Скрытный. Верно? — Не ответив, он снова взглянул на рисунки. — Говорят, год нам предстоит хороший, скоро Венера до нас дойдет.
Он покраснел.
— Ну, откуда мне знать про такое?
Вздохнув, она опять собралась уходить.
— Что ж, мистер Хоксмур, счастливо вам съездить. — Тут она подмигнула ему. — Вы только сначала решите куда.
*Он вывел свое имя в пыли на подоконнике, потом стер. Включил радио, но ему слышались голоса, шепчущие: «Каким тебя ветром сюда занесло? Каким тебя ветром сюда занесло?» Сидя посередине комнаты, он иногда видел движущиеся фигуры, мимолетно, краем глаза, но они были неясны, как тени на воде, и исчезали, стоило ему повернуть голову. А когда опустились сумерки, он продекламировал одно из стихотворений, записанных в белой книжке:
Я видел дверь, за ней горело пламя
Я видел высь, что уместилась в яме
Я видел круг, ребенок там плясал
Я видел дом, что под землей стоял
Я видел человека, что не был в мир рожден,
Прикрой глаза от солнца, вглядись: ты — это он.
Пока голос Хоксмура эхом разносился по комнате, с каминной полки упало несколько монет. Под этими строчками были и другие, но стихотворение, похоже, не имело конца, и он потерял к нему интерес. Он включил телевизор и, увидев изображение человека, сидящего спиной к нему, вытянул шею вперед, силясь его рассмотреть. Увеличил контрастность, потом яркость, но изображение четче не сделалось. Хоксмур сидел, уставившись в экран, а время шло.
Передавали утреннюю службу, и он понял, что сегодня воскресенье. Священник возвышался над паствой: «Можно вспомнить о том, как сложна и опасна современная жизнь, каким темным выглядит будущее и как далеки мы от наших предков. Но я, друзья мои, скажу вам следующее: каждый век считал себя темным и опасным, каждый век боялся своего будущего, каждый век терял своих предшественников. И тогда люди обращались к Богу с такой мыслью: если есть тени, то должен быть и свет! А в глубине лет, друзья мои, находится бесконечность, которую возможно разглядеть, если уповать на милость Божию. И замечательно то, что эта бесконечность пересекается со временем, совсем, как в этой церкви…» Внимание Хоксмура отвлекла муха, пытавшаяся выбраться из закрытого окна, и когда он снова взглянул на экран, священник успел уйти вперед: «…когда мать бросает на дитя любящий взгляд, свет, льющийся из ее глаз, утешает и лелеет младенца; наши голоса, звучащие в этой церкви, тоже способны служить на благо света, изгонять тень; вам, друзья мои, необходимо научиться видеть этот свет, необходимо двигаться вперед, навстречу ему, ведь свет этот — отражение Света Божьего».
Когда на экране появилось изображение притихшей паствы, Хоксмуру показалось, что он узнал интерьер церкви; и тут показали ее снаружи, камера двинулась сверху вниз, от колокольни к ступеням, задержавшись на табличке позади входа, которая гласила: «Церковь Христа, Спиталфилдс. Возведена Николасом Дайером, 1713». И все, что было прежде, оказалось сном, потому что теперь он знал: вот он смотрит сверху вниз на тело перед церковью Св. Марии Вулнот и взгляд его снова падает на табличку, где говорится: «Заложена в саксонскую эпоху, последний раз перестроена Николасом Дайером, 1714». Такое же имя было и на доске перед церковью в Гринвиче, и он понял, какая в этом заключена симметрия.
Он позволил себе погрузиться в осознание этой схемы, а тем временем картинка на экране телевизора начала очень быстро меняться, крутиться, потом распалась на целый ряд различных изображений. Если прежде церкви были для него источником тревоги и ярости, то теперь он разглядывал каждую из них по очереди с благосклонным любопытством, видя, сколько величия было в этой работе: огромные камни церкви Христа, почерневшие стены Св. Анны, двойные башенки Св. Георгия-на-Востоке, тишина Св. Мэри Вулнот, неповрежденный фасад Св. Альфеджа, белая колонна Св. Георгия в Блумсбери — все это приобрело новый масштаб теперь, когда Хоксмур размышлял о них и о преступлениях, во имя их совершенных. И все-таки он чувствовал, что схема неполна, и чуть ли не с радостью ждал именно этого.
Когда на следующее утро он вышел из дому, похолодало. Окна библиотеки покрывал иней; он снял с полки энциклопедию и нашел страницу со статьей «ДАЙЕР Николас». Вот что он прочел: «1654–1715(?). Английский архитектор, самый значительный из учеников сэра Кристофера Рена, работал вместе с Реном и сэром Джоном Ванбру в конторе по строительству в Скотленд-ярде. Дайер родился в Лондоне в 1654 г.; происхожение его неизвестно, но можно предположить, что поначалу он был подмастерьем у каменщика, а затем стал личным помощником Рена. Позже он занимал несколько официальных должностей под руководством Рена, включая должность инспектора при восстановлении Св. Павла. Наиболее заметные самостоятельные работы он выполнил, став главным архитектором в комиссии по новым лондонским церквам 1711 г. Его постройки были единственными, которые этой комиссии удалось завершить. Дайер смог воплотить в жизнь семь своих начинаний: церковь Христа в Спиталфилдсе, церковь Св. Георгия-на-Востоке в Уоппинге, церковь Св. Анны в Лаймхаусе, церковь Св. Альфеджа в Гринвиче, церковь Св. Мэри Вулнот на Ломбард-стрит, церковь Св. Георгия в Блумсбери и церковь Малого св. Гуго неподалеку от Мурфилдса; последняя стала величайшим из его произведений. В этих зданиях ясно видно умение архитектора оперировать большими абстрактными формами и прослеживаются те полные чувственности (едва ли не романтические) линии, которые характеризуют размер и тень в его работах. Однако при жизни у него, по-видимому, не было учеников, тогда как впоследствии изменения в архитектурных вкусах привели к тому, что его произведения не приобрели большой значимости, так и не получив широкого признания. Он умер в Лондоне зимой 1715 г., полагают, что от подагры, хотя записи о его смерти и захоронении утеряны». Хоксмур не сводил глаз со страницы, пытаясь представить себе прошлое, которое описывали эти слова, но не видел перед собой ничего, кроме тьмы.
Когда он покинул библиотеку и вернулся на Грейп-стрит, улицы уже заполнял народ. Весь в поту, несмотря на сильный холод, он снял со стен листки из белой книжечки, аккуратно разложил их по порядку, а после нетерпеливым жестом запихнул в карман. Он попытался сосредоточиться на том, что ему делать дальше, но мысли его блуждали, отваливались, оставаясь лежать в тени никогда не виданной им церкви Малого св. Гуго. Он добрался до конца — случайно, не зная, что это конец, — и этот непредвиденный, неопределенный взлет еще мог лишить его победы. Воля ушла из него, и, пока он сидел в своем темном пальто и наблюдал за тем, как солнце перекатывается по верхушкам крыш, ее место заняли очертания движущихся фигур. Потом он встряхнул головой и поднялся с решительностью, показывавшей, что он хочет предотвратить по меньшей мере еще одну смерть. Но стоило ему шагнуть на улицу, как он испытал страх; кто-то столкнулся с ним, и в тот момент он готов был повернуть обратно, если бы не подошел автобус, ходивший между Блумсбери и Фенчерч-стрит. Хоксмур сел в него без раздумий. Он съежился на сиденье, а перед ним покоился младенец, спавший, положив подбородок на грудь. Вот так, подумал Хоксмур, спят в старости. Лоб его горел; он прижался им к окну и стал смотреть на пар, поднимавшийся изо рта у людей, что торопились куда-то по улицам города.