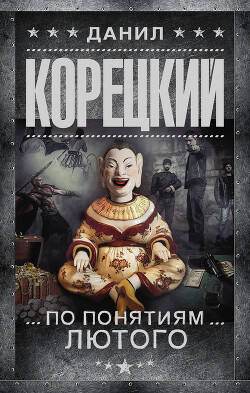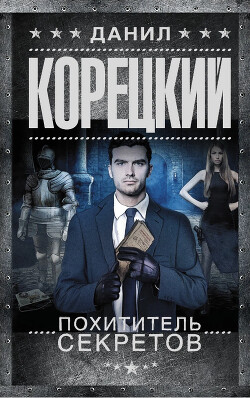Перстень Иуды - Корецкий Данил Аркадьевич
Латышев вскочил и, перегнувшись через стол, ударил ротмистра по руке. Грохот выстрела больно вдавил барабанные перепонки, пуля вошла в верхнюю часть дубового платяного шкафа. Тошнотворно запахло порохом и промелькнувшей мимо смертью. Красивое лицо ротмистра побелело.
– Доигррались! – с осуждением сказал Лоскутов. У него лоб покрылся бисеринками пота. – Дгавайте по пгоследней, и спать!
Но пить никто не стал. Все молча рассматривали Латышева. Так пристально, что ему даже стало неудобно.
На следующее утро, как и обещал Клементьеву, Юрий Митрофанович пошел к нему на допрос.
В холодном и сыром кирпичном подвале особняка было не так уютно, как наверху. И атмосфера была совсем другая: мрачная, давящая, устрашающая. Может, потому, что здесь бродили души десятков или даже сотен расстрелянных.
Они прошли по коридору, Клементьев открыл железную дверь, у которой дожидались два угрюмых бородатых казака средних лет, и посторонился, пропуская капитана.
За дверью находилось прямоугольное, достаточно просторное помещение со стенами из красного кирпича. Когда-то здесь располагался винный погреб, от которого остались деревянные стеллажи вдоль длинной стены. Но ни одной бутылки с содержимым из драгоценных довоенных урожаев, естественно, не сохранилось. Под самым потолком находилось окно, перечеркнутое крест накрест толстыми стальными прутьями. Стол с двумя стульями, деревянная, наскоро сбитая кушетка, большой таз с водой, эмалированный шкафчик с аккуратно разложенными медицинскими инструментами, ширма в углу. Обстановка была мрачной и напоминала живодерню. Может, оттого, что Латышев знал о назначении комнаты.
– Тут холодно, так что шинель не снимай, – по-свойски посоветовал Клементьев, незаметно, без всякого брудершафта, перейдя на «ты».
– Садись за ширмочку, мы туда свидетелей для очной ставки прячем, и дожидайся. Как я скажу: «Что-то ты, братец, совсем заврался!» – так сразу выскакивай и лупи его нещадно, смертным боем, секунды передыху не давай! Тут очень важно крутой замес сделать, чтобы силу показать и дать понять: с ним не шутят и не пугают – убивают его по-настоящему, и убьют непременно, если не выложит все, как на духу!
Латышев тяжело вздохнул. Клементьев рассмеялся. Это был молодой парень лет двадцати трех, невысокий, широкоплечий, в недавнем прошлом – чемпион Ростова по французской борьбе. Он очень любил «третью степень» и наловчился рукояткой револьвера выбивать все передние зубы с одного удара. Это был его коронный прием, за который он и получил свое прозвище – Зубник.
– Чего вздыхаешь? Не тебя ведь бить будут, а ты будешь уму-разуму учить! Да может, бить и вообще не придется…
В голосе поручика проскользнули нотки сожаления.
– Почему? – с надеждой поинтересовался капитан.
Клементьев развел клещеобразными руками.
– Его с листовками поймали, привели к нам как большевистского агитатора, чтобы всю сеть выявить. Только он – телок деревенский! Хотел матери козу купить, вот и взялся деньжат подработать… Я его вчера принимал, поговорил «за жизнь», вроде все совпадает. Какая там сеть: поймал его товарищ, дал пятьсот рублей керенками, вручил пачку листовок и послал в казармы – раздавать. Он сам сиволапый, двух слов связать не может! Кого он сагитирует? Скорей всего, отпускать его придется. Ну, конечно, дать плетей для острастки, и все… Мы же не звери…
Поручик приказал казакам привести арестованного, а Латышев зашел за ширму и сел на грубо сколоченный табурет. Он испытывал некоторое облегчение, хотя в глубине души шевелилось сомнение: не тот человек Зубник, чтобы отпустить даже полностью невиновного… Вот если бы судьба несчастного зависела от него, Латышева…
Тем временем привели задержанного. Тот заискивающе поздоровался, когда Клементьев предложил ему сесть, суетливо поблагодарил. Говорил он невнятно, будто рот был набит кашей. Гугнивая, корявая речь, много слов паразитов – действительно, агитатор из него никудышний. Хотя капитан не видел подозреваемого, но представлял отчетливо: простецкое лицо, бессмысленный взгляд, нечесаные волосы, заскорузлые руки…
– Кто такой? – строго начал допрос Клементьев.
– Колтунов Иван, сын Петра, – с готовностью ответил задержанный. – Из крестьян. Из деревни Голодаевка мы…
Гнусавая скороговорка показалась Латышеву знакомой. Хотя так разговаривает все простонародье…
– Так, так, так… А задержан в расположении второй роты студенческого батальона, агитировал мальчиков, которые добровольно идут с нами воевать против красных! – рявкнул Зубник. – Как это понимать?
– Случайно, ваше благородие, бес попутал! Он мне сам эти листовки всунул! А мне деньги край нужны, у маменьки коза сдохла от бескормицы, а без козы ей никуда…
– Да, нашли мы у тебя в котомке письмо от маменьки, нашли… И про козу она пишет…
Клементьев зашелестел бумагой.
– Клавдией Михайловной зовут мамашу?
– Точно так, ваше благородие, точно так! Клавдия Михайловна, дай ей Бог здоровья… Она ж меня в город и послала на заработок… Я бы так и сидел в деревне, как всю жизнь просидел, боюсь я города-то. Только у нас бескормица, люди мертвых едят…
– Да, довели матушку Россию! – удрученно произнес Зубник. – А чего ты города-то боишься? Что у нас тут страшного?
– А все… Людишек толпы, все злые, глазами зыркают, котомку скрасть норовят… И эти… Автомобили… Дьявольское наваждение, вот оно что… Отпустите меня, ваше благородие, не казните! Я сразу обратно в Голодаевку подамся…
– Да, вижу, ты по дури влез в это дело! – важно подвел итог Клементьев. – Значит, ты не враг, а дурак… Но за дурость свою расплатишься: плетей горячих получишь. А уж потом полетишь белым лебедем к мамке своей Клавдии Михайловне…
– Спасибо, ваше благородие, за справедливость, за понимание, за участие, – благодарно рассыпался задержанный.
У Латышева внезапно создалось впечатление, что это не допрос, а спектакль. И разыгрывает его не оперативный офицер КР поручик Клементьев с задержанным, а задержанный – полуграмотный, но хитрый крестьянин – с поручиком Клементьевым. Если он действительно полуграмотный и действительно крестьянин…
Капитан осторожно выглянул. Задержанный сидел боком и выглядел так, как он себе и представлял: простецкая физиономия, нос картошкой, спутанные волосы… Только это был никакой не «Колтунов, сын Петра», а его давний знакомец и лютый враг, который для маскировки сбрил редкую рыжую бороденку.
Латышев выскочил из-за ширмы, сильнейшим ударом в лицо сшиб задержанного на пол и принялся избивать руками и ногами, которые двигались взад-вперед, как мощные паровозные поршни, и, соприкасаясь с телом, издавали вязкие звуки, как замешиваемое усердной хозяйкой тесто на пироги.
– Юрий Митрофанович, вы перепутали, я не подавал сигнала! – растерянно воскликнул Клементьев, но капитан не обратил на него никакого внимания.
– Сирота казанская, сучий потрох! В деревне всю жизнь сидел? А кто солдатским комитетом на германском фронте командовал? Кто атаку сорвал? Кто меня расстреливал?
Латышев запыхался, но продолжал обрушивать на товарища Хруща град тяжелых ударов. В допросную вошли майор Козюков и капитан Самохвалов, они в изумлении замерли на пороге.
– Расстрелы – паровоз истории, так? Вот я тебя и расстреляю, скотину!
– Не надо, не надо, хватит!
Товарищ Хрущ корчился, кричал, стонал, утробно хрипел, плакал, выплевывал сопли и кровавую слюну.
– Где твой дружок, комиссар? Как там его…
– Скажу, все скажу! Поленов здесь, в Ростове, подпольем руководит…
– Адрес! Быстро, гадюка, убью!
– Державинский, 4, напротив крупорушки…
Клементьев поспешно записал.
– А где Маруська Самгина? Где эта сука?
– Там же, во флигеле… Домой ночевать не ходит, опасается…
– Виртуозно работает, – в восторге сказал Самохвалов. – Поленов проходит по делу Овсянникова! А Самгина – его связь. Сейчас мы весь клубок размотаем, все осиное гнездо выжгем!