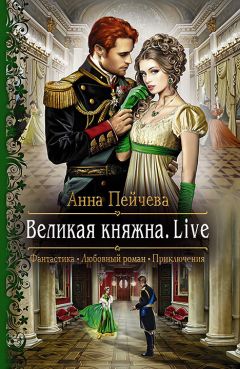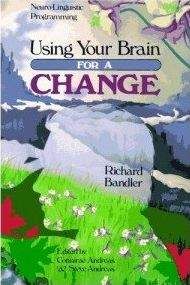Леонид Юзефович - Журавли и карлики
Ей дали время посмотреть на него, но близко к нему не подпустили. Стали спрашивать: «Это твой сын? Это твой сын?»
Ничего не добившись, прикрикнули построже: «Говори! Это твой сын?»
Она не отвечала. Ее поманили в сторонку и сказали: «Ежели он твой сын Тимошка Анкудинов, за его воровство не миновать ему Сибири, а ежели он царя Василия истинный сын и наводил чужеземных государей на православную веру и Московское государство, за такую его измену быть ему на плахе».
Тогда, заплакав слезами, она прошептала: «Это мой сын».
Ее опять подвели к нему, и она повторила громче: «Это мой сын».
Наступила тишина. Никто не смел подать голос, все смотрели на Анкудинова. Прошло время, прежде чем он спросил: «Инокиня, как тебя звать?»
«В миру звали Соломонидой, теперь – Степанидой», – ответила она.
Анкудинов закрыл глаза и долго молчал. Наконец, жалея мать, но не желая признавать ее матерью, сказал: «Эта женщина мне не мать, но когда отца моего, государя Василия Ивановича, поляки взяли в Польшу, я остался у ней на воскормлении. Она вырастила меня и была ко мне добра, как мать».
Его опять отдали палачам. Чтобы хоть ненадолго избавиться от невыносимых мучений, он объявил, что откроет всю правду лишь боярину Никите Ивановичу Романову, дяде царя, ибо эти речи – тайные, никому другому нельзя их слышать, не то всей православной вере будет большая беда. Послали за Романовым. Тот, приняв во внимание важность дела, согласился прийти в застенок.
Пока его ждали, Анкудинов попросил пить. Ему принесли квасу в простой чашке. Возмутившись, он потребовал меду, и не в деревянной посуде, а в серебряной, как подают князьям и боярам, пригрозив, что иначе даже с Никитой Ивановичем говорить не станет. Запрос исполнили, однако от слабости пить он уже не мог и лишь пригубил.
Явился Романов, но и тут никаких тайн не раскрылось, Анкудинов сказал ему то же самое, о чем рассказывал прежде, ничего более. Пытки возобновились, и теперь от него не сумели добиться ни слова. К рассвету он был так плох, что мог умереть в любую минуту. Дознание решили прекратить. Безвестная смерть в застенке была ему не по чину, к тому же могла вызвать слух о его чудесном спасении.
Утром Анкудинова вывезли на Красную площадь, зачитали перед народом его вины и объявили приговор о четвертовании. При этом присутствовал польский посланник Станислав Довойно, заблаговременно доставленный к месту казни. Он должен был донести до короля Яна Казимира и других монархов Европы весть об ужасном конце самозванца.
Раздетого донага Анкудинова положили на плаху, палач отрубил ему сначала правую руку до локтя, потом левую ногу до колена, потом левую руку, правую ногу и голову. «Все это, – записал Олеарий, который приехал в Москву позже, но подробно расспрашивал свидетелей, – он вынес как бесчувственный».
Голову и отрубленные члены, насадив их на колья, выставили на площади, а туловище с обрубками рук и ног бросили здесь же на снегу. Ночью его съели собаки.
Шубин убрал машинку в футляр и пошел спать.
В большой комнате не горели ни люстра, ни торшер, но было почти светло. Шторы остались раздвинутыми, луч прожектора, висевшего под крышей и освещавшего машины у подъезда, белой полосой с дымными краями рассекал темноту за окном.
Жена лежала в постели, но не спала.
– Закончил? – спросила она.
– Да.
– Ничего не наврал?
Он промолчал, хотя в последней главе не прибавил от себя ни слова. Протоколы допросов и свидетельства очевидцев казни не требовали его вмешательства, но оправдываться не хотелось. Была уверенность, что если бы сам Анкудинов прочел его очерк с начала до конца, обижаться бы он не стал. Мертвым оскорбителен не вымысел, а недостаток любви. В этом Шубин был перед ним чист.
– Я знаю, почему ты решил дать волю своей фантазии, – сказала жена, когда он лег рядом.
– Почему?
– Потому что пишешь для себя. Они решили тебя не печатать, или у них кончилось финансирование, и ты боишься мне сказать.
Она прижалась к нему и, целуя, шепнула:
– Не бойся, у меня есть заначка. Зимой я ходила заниматься с дочерью одной маминой знакомой из мэрии, а тебе не говорила. Они мне платили бешеные деньги, два с половиной доллара за урок.
37Один из этих бугаев был ровесник Жохова, второй – сильно младше. Оба в камуфляже, в ботинках с высокой шнуровкой. Ни того ни другого он никогда раньше не видел, но при взгляде на третьего сразу полегчало, хотя в ушах стоял гул, соленая жидкость из носоглотки текла в горло, копилась под носом. Пошатывало, голова моталась, как у китайского болванчика, когда Катя начала вытирать ему кровь на губах.
– Он случаем не обещал вам жениться? – спросил Борис. – Вы просто созданы для того, чтобы стать жертвой брачного афериста.
– Говно ты, – сквозь туман сказал Жохов и получил кулаком в ухо.
Бил молодой. В правом глазу полыхнуло радужным огнем с черной каемкой, но боль почти не чувствовалась. Мысль, что про деньги им ничего не известно, действовала как наркоз. Лишь бы не стали шарить по карманам.
Повели к машине. Один забрался на заднее сиденье, второй втолкнул туда Жохова, профессиональным движением пригнув ему голову, и всей тушей плюхнулся с другой стороны. В воздухе между ними повис чесночный дух пивных сухариков.
На вопрос, куда его повезут, ответили, что в ментовку. Он мгновенно успокоился. По нынешним временам – идеальный вариант. Сотни баксов хватит, чтобы потом порвали протокол и с почетом проводили до дежурки. Хватило бы половины, но полсотни нету. Теперь нужно было незаметно вытянуть эту сотню из пачки, а после засунуть в другой карман, будто она там одна только и есть, бедненькая. Тогда все выйдет естественно, менты вряд ли станут его обыскивать.
Подбежала Катя, подобрав по дороге выброшенную им сумку.
– Я поеду с ним! Откройте!
Она принялась дергать запертую переднюю дверцу. Жохов потянулся к защелке, ему дали по руке. Борис сел за руль и впустил Катю в салон.
– Я хочу знать, – сказал он, не оборачиваясь, – откуда тебе это обо мне известно?
– Что – это?
– Про Колпакова, что он нашему замполиту голову проломил. Что меня к бабушке на похороны не отпустили.
– Отец рассказывал.
– А если в лоб?
– Говорю как есть. Он просто боится тебе про меня сказать.
– Чего он боится?
Жохов скосил глаза на Катю. Она смотрела на него с надеждой, что сейчас все объяснится.
– Потому что, – без труда нашел он причину, – квартира нам обоим завещана, пятьдесят на пятьдесят. Отец от тебя это скрывает.
Конвоиры слушали внимательно. Молодой спросил:
– Где квартира-то?
– На проспекте Мира, – ответил второй. – Я ему туда продукты возил. Трехкомнатная, в сталинском доме. Тысяч двадцать долларов стоит.
– Слышь, Боря, – предложил первый, – давай мы его тут кончим, пидараса, а ты нам по штуке баксов отвалишь. Не то десять отдашь. Помрет батя, сэкономишь восемь штук.
– Больше, – накинул второй, – если не завтра помрет. Квартиры быстро дорожают.
Жохов поежился. Не понятно было, есть ли в этой шутке доля шутки.
Включив свет, Борис покопался в бумажнике, вынул две купюры по двадцать долларов и через плечо протянул их назад.
– Спасибо, мужики.
Двадцатки были аккуратно вынуты у него из пальцев, одинаковым движением вскинуты к лампочке под потолком и проверены сначала на просвет, затем – на свежесть, а то в обменнике могли скостить десять процентов от номинала. Старший заложил свою в паспорт, младший – в извлеченную из куртки брошюру «Как правильно составить бизнес-план».
– Малая у меня котенка со двора принесла, назвали Баксом, – хохотнул он, снимая обычное при денежных расчетах напряжение.
– Бакс, Макс, херакс. У нас кот – Джохар, – сообщил второй. – Бандюган тот еще и тоже, можно сказать, бывший летчик. Летом с девятого этажа спикировал, и ничего, жив.
– Не мало? – осведомился Борис, имея в виду их гонорар.
– Нормально.
– Тогда все. Езжайте в Москву.
– Не понял, – удивился младший.
– Свободны. От вас больше ничего не требуется, сами разберемся.
– До электрички не подбросишь?
– Нет. Здесь ходу пятнадцать минут.
Они молча вылезли из машины и зашагали в сторону станции.
– Охранники у нас в офисе, – вслед им сказал Борис.
В них чувствовалась угрюмая выучка людей другого полета, знающих себе цену. Она складывалась из многих факторов, и умение подчиняться тем, кто не стоит их мизинца, считалось одним из важнейших. Ребята явно были с биографией – КГБ или спецназ. Там тоже шло сокращение штатов, борьба со шпионами и диверсантами стала делом еще менее актуальным, чем охота на вольфрам в монгольских степях. Проще было получить финансирование на поиски философского камня.
Через четверть часа сидели на теткиной даче – щитовой, но утепленной слоем стекловаты. Дребезжало треснутое стекло, откликаясь на мучительные содрогания холодильника «Саратов». Комната составляла одно целое с кухней. Бугристый от выпирающих пружин диванчик был застелен тюлевой занавеской вместо покрывала, одну ножку заменял неошкуренный чурбачок. Над диванчиком висела политическая карта мира с красным Советским Союзом, желтым Китаем и зажатой между ними оранжевой Монголией. На старых картах она всегда соединяла в себе цвета двух своих великих соседей. К востоку от Тайваня темнели следы раздавленных в Тихом океане клопов.