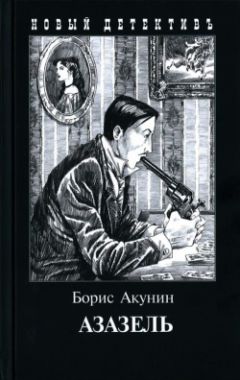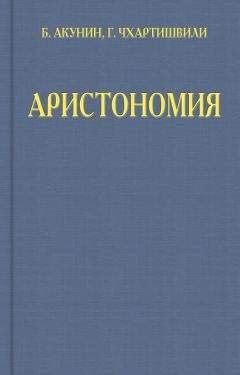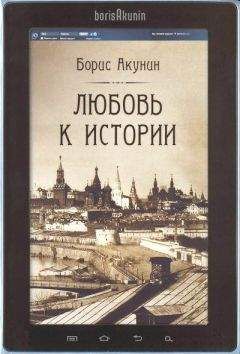Азазель - Акунин Борис "Чхартишвили Григорий Шалвович"
Вся надежда оставалась на Кукина, в отношении которого Грушин, скорее всего, опять-таки прав. Сболтнул приказчик не подумав, а теперь таскайся из-за него по всей Москве, выставляй себя перед приставом на посмешище.
Бакалейная лавка «Брыкин и сыновья» выходила стеклянной дверью с изображением сахарной головы прямо на набережную, и мост отсюда был виден как на ладони – это Фандорин отметил сразу. Отметил он и то, что окна лавки были нараспашку (видно, от духоты), а стало быть, мог услышать Кукин и «железный щелчок», ведь до ближайшей каменной тумбы моста никак не далее пятнадцати шагов. Из двери заинтригованно выглянул мужчина лет сорока в красной рубахе, черном суконном жилете, плисовых штанах и сапогах бутылками.
– Не угодно ли чего, ваше благородие? – спросил он. – Никак заплутать изволили?
– Кукин? – строго спросил Эраст Петрович, не предвидя от грядущих объяснений ничего утешительного.
– Точно так-с, – насторожился приказчик, сдвинув кустистые брови, но сразу же догадался. – Вы, ваше благородие, должно, из полиции? Покорнейше благодарен. Не ожидал такого скорого вашего внимания. Господин околотошный сказали, что начальство рассмотрит, но не ожидал-с, никак не ожидал-с. Да что же мы на пороге-то! Пожалуйте в лавку. Уж так благодарен, так благодарен.
Он и поклонился, и дверку приоткрыл, и еще рукой приглашающий жест сделал – мол, милости прошу, но Фандорин не тронулся с места. Сказал внушительно:
– Я, Кукин, не из околотка, а из сыскной полиции. Имею поручение разыскать сту… того человека, про которого вы сообщили околоточному надзирателю.
– Это скубента-то? – с готовностью подсказал приказчик. – Как же-с, преотлично его запомнили. Страх-то какой, прости Господи. Я как увидел, что они на тумбу залезли и оружию к голове приставили, так и обмер – ну все, думаю, будет как о прошлый год, опять никого в лавку калачом не заманишь. А в чем мы-то виноваты? Что им тут, медом намазано, руки на себя накладывать? Ты сходи вон к Москве-реке, там и поглыбже, и мост повыше, да и…
– Помолчите, Кукин, – перебил его Эраст Петрович. – Лучше опишите студента. Во что был одет, как выглядел и с чего вы вообще взяли, что он студент.
– Так ведь как есть скубент, по всей форме, ваше благородие, – удивился приказчик. – И мундир, и пуговицы, и стеклышки на носу.
– Как мундир? – вскинулся Фандорин. – Он разве в мундире был?
– А как же иначе-с? – сожалеюще взглянул на бестолкового чиновника Кукин. – Без энтого где ж мне было понять, скубент он или нет? Что я, по мундиру скубента от приказного не отличу?
На это справедливое замечание Эрасту Петровичу сказать было нечего, он вытащил из кармана аккуратный блокнотик с карандашом – записывать показания. Блокнотик Фандорин купил перед тем, как на службу в Сыскное поступать, три недели без дела проносил, да вот только сегодня пригодился – за утро коллежский регистратор в нем уже несколько страничек меленько исписал.
– Расскажите, как выглядел этот человек.
– Человек как человек. Собою невидный, на лицо немножко прыщеватый. Стеклышки опять же…
– Какие стеклышки – очки или пенсне?
– Такие, на ленточке.
– Значит, пенсне, – чиркал карандашом Фандорин. – Еще какие-нибудь приметы?
– Сутулые они были очень. Плечи чуть не выше макушки… Да что, скубент как скубент, я ж говорю…
Кукин недоумевающе смотрел на «приказного», а тот надолго замолчал – щурился, шевелил губами, шелестел маленькой тетрадочкой. В общем, думал о чем-то человек.
«Мундир, прыщеватый, пенсне, сильно сутулый», – значилось в блокноте. Ну, немножко прыщеватый – это мелочь. Про пенсне в описи вещей Кокорина ни слова. Обронил? Возможно. Свидетели про пенсне тоже ничего не поминают, но их про внешность самоубийцы особенно и не расспрашивали – к чему? Сутулый? Хм. В «Московских ведомостях», помнится, описан «статный молодец», но репортер при событии не присутствовал, Кокорина не видел, так что мог и приплести «молодца» ради пущего эффекта. Остается студенческий мундир – это уже не опровергнешь. Если на мосту был Кокорин, то получается, что в промежутке между одиннадцатым часом и половиной первого он зачем-то переоделся в сюртук. И интересно где? От Яузы до Остоженки и потом обратно к «Московскому страховому от огня обществу» путь неблизкий, за полтора часа не обернешься.
И понял Фандорин с ноющим замиранием под ложечкой, что выход у него один-единственный: брать приказчика Кукина за шиворот, везти в участок на Моховую, где в покойницкой все еще лежит обложенное льдом тело самоубийцы, и устраивать опознание. Эраст Петрович представил развороченный череп с засохшей коркой крови и мозгов, и по вполне естественной ассоциации вспомнилась ему зарезанная купчиха Крупнова, до сих пор наведывавшаяся в его кошмарные сны. Нет, ехать в «холодную» определенно не хотелось. Но между студентом с Малого Яузского моста и самоубийцей из Александровского сада имелась связь, в которой непременно следовало разобраться. Кто может сказать, был ли Кокорин прыщавым и сутулым, носил ли он пенсне?
Во-первых, помещица Спицына, но она, верно, уже подъезжает к Калужской заставе. Во-вторых, камердинер покойного, как бишь его фамилия-то? Неважно, все равно следователь выставил его из квартиры, поди отыщи теперь. Остаются свидетели из Александровского, и прежде всего те две дамы, с которыми Кокорин разговаривал в последнюю минуту своей жизни, уж они-то наверняка разглядели его во всех деталях. Вот в блокноте записано: «Дочь д. т. с. Елиз. Александр-на фон Эверт-Колокольцева 17 л., девица Эмма Готлибовна Пфуль 48 л., Малая Никитская, собст. дом».
Без расхода на извозчика все же было не обойтись.
День получался длинный. Бодрое майское солнце, совсем не уставшее озарять златоглавый город, нехотя сползало к линии крыш, когда обедневший на два двугривенных Эраст Петрович сошел с извозчика у нарядного особняка с дорическими колоннами, лепным фасадом и мраморным крыльцом. Увидев, что седок в нерешительности остановился, извозчик сказал:
– Он самый и есть, генералов дом, не сомневайтесь. Не первый год по Москве ездим.
«А ну как не пустят», – екнуло внутри у Эраста Петровича от страха перед возможным унижением. Он взялся за сияющий медный молоток и два раза стукнул. Массивная дверь с бронзовыми львиными мордами немедленно распахнулась, выглянул швейцар в богатой ливрее с золотыми позументами.
– К господину барону? Из присутствия? – деловито спросил он. – Доложить или только бумажку какую передать? Да вы заходите.
В просторной прихожей, ярко освещенной и люстрой, и газовыми рожками, посетитель совсем оробел.
– Я, собственно, к Елизавете Александровне, – объяснил он. – Эраст Петрович Фандорин, из сыскной полиции. По срочной надобности.
– Из сыскной? – презрительно поморщился страж дверей. – Уж не по вчерашнему ли делу? И не думайте. Барышня почитай полдня прорыдали и ночью спали плохо-с. Не пущу и докладывать не стану. Его превосходительство и то грозили вашим из околотка головы поотрывать, что вчера Елизавету Александровну допросами мучили. На улицу извольте, на улицу. – И стал, мерзавец, еще животом своим толстым к выходу подпихивать.
– А девица Пфуль? – в отчаянии вскричал Эраст Петрович. – Эмма Готлибовна сорока восьми лет? Мне бы хоть с ней перемолвиться. Государственное дело!
Швейцар важно почмокал губами.
– К ним пущу, так и быть. Вон туда, под лестницу идите. По коридору направо третья дверь. Там госпожа гувернантка и проживает.
На стук открыла высокая костлявая особа и молча уставилась на посетителя круглыми карими глазами.
– Из полиции, Фандорин. Вы госпожа Пфуль? – неуверенно произнес Эраст Петрович и на всякий случай повторил по-немецки. – Полицайамт. Зинд зи фрейляйн Пфуль? Гутен абенд. [1]
– Вечер добрый, – сурово ответила костлявая. – Да, я Эмма Пфуль. Входите. Задитесь вон на тот штул.
Фандорин сел куда было велено – на венский стул с гнутой спинкой, стоявший подле письменного стола, на котором аккуратнейшим образом были разложены какие-то учебники и стопки писчей бумаги. Комната была хорошая, светлая, но очень уж скучная, словно неживая. Только вот на подоконнике стояло целых три горшка с пышной геранью – единственное яркое пятно во всем помещении.