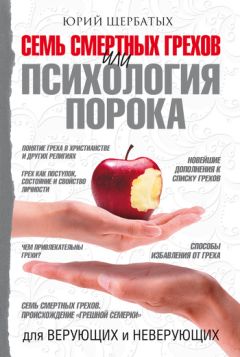Андрей Воронин - Рукопись Платона
Отец Евлампий едва успел занести на первую ступеньку ногу в старательно начищенном сапоге, как сверху навстречу ему ссыпался княжеский лакей Тимошка и почтительно склонился, загородив тем не менее, дорогу. Отец Евлампий благословил раба Божьего и двинулся было дальше, но задержался и спросил, дома ли княжна.
В ответ ему было сказано, что их сиятельство изволят прогуливаться в парке и раньше двух часов возвращаться не собирались. Отец Евлампий недовольно пошевелил бородой, косясь на солнце. Дневное светило еще не добралось до зенита; сие означало, что ждать отцу Евлампию придется не менее двух часов, что в его планы никак не входило.
Несмотря на почтенный возраст, отец Евлампий обладал живым характером и не мог подолгу сидеть без дела. Разумеется, привычки батюшки были княжеской прислуге хорошо известны, и он мог скоротать время, сидя в холодке, потягивая вишневую наливку и благожелательно наставляя дворню. Однако ж княжеская наливка была на диво хороша, и отец Евлампий предвидел, что за два с лишком часа успеет воздать ей должное чересчур основательно. Представать в таком непотребном виде перед хозяйкой поместья было бы неловко, да и матушка Пелагия Ильинична по возвращении домой наверняка задала бы перцу своему облеченному саном супругу.
К тому же дело, которое привело отца Евлампия в усадьбу, было довольно деликатное, и он опасался, что длительная проволочка остудит его решимость. Взвесив все «за» и «против», батюшка осведомился, в какой части парка изволит прогуливаться княжна.
Лакей замялся. Батюшка немного подождал, но тот продолжал молчать, потупив плутоватые гляделки и неловко переминаясь с ноги на ногу, будто бы в смущении.
— Что с тобой, раб Божий? — стараясь говорить басом, спросил отец Евлампий. — Язык проглотил?
— Не извольте гневаться, батюшка, — заныл лакей, — а только их сиятельство беспокоить не велели. Попадет мне, коли ослушаюсь.
— А и правильно, что попадет, — сказал отец Евлампий с легким злорадством и тут же с грустью подумал, что опять грешит. Княжне Вязмитиновой позволительно недолюбливать дворовых бездельников, на то она и княжна, на то и внучка своему деду, грозному князю Александру Николаевичу. Но то, что дозволено молодой княжне, недопустимо для духовного лица, удел коего — любовь ко всем ближним без исключения, даже если у ближнего рожа кирпича просит... «Опять, — с глубоким раскаянием подумал отец Евлампий. — Ну что ты станешь делать?! Господи, прости меня, грешного!» — И правильно, что попадет, — повторил он тем не менее. — Такому, как ты, раб Божий, наука лишней не бывает. Однако же я тебя не посылаю княжну искать, так что и беспокоить ее тебе не придется. Ну, сказывай, куда она пошла?
— Прости, батюшка, не велено, — снова сгибаясь пополам, упрямо пробормотал лакей.
Отец Евлампий, глядя на его затылок, подумал, что Мария Андреевна в полной мере унаследовала крутой характер своего покойного деда, которого боялась вся округа, когда он был жив. Даже цепные псы умолкали и, поджав хвосты, забивались под крыльцо, стоило только старому князю взглянуть на них построже. Да, молодая княжна пошла в деда и умом, и характером. С одной стороны, оно и хорошо, что так вышло, да только иметь с ней дело порою бывало ох как непросто!
— А вот я тебя прокляну, — ласково пообещал лакею отец Евлампий, — будешь тогда знать, что велено, а что не велено. По анафеме соскучился, ирод оглашенный?
Лакей сник и, не препятствуя высказанной столь решительно воле батюшки, молча указал ему на аллею, в которую удалилась княжна. Величественно шествуя в указанном направлении, отец Евлампий подумал, что Мария Андреевна, слава Богу, в последнее время хоть немного остепенилась и почти перестала палить на заднем дворе из ружей и пистолетов, пугая дворню и вызывая глупейшие пересуды. Неужто и вправду за ум взялась? Хорошо бы, кабы так... Глядишь, со временем удастся уговорить ее бросить эту свою богохульную затею — школу для крестьянских детей. Нет, грамота, спору нет, дело хорошее, да только не всякому она нужна, не всякому от нее в жизни облегчение выходит. Да кабы дело только в грамоте было! Ну, разучи азбуку да и читай себе потихоньку Слово Божье, как то православному христианину подобает. Так нет, ей того мало! Арифметику какую-то ввела, геометрию богомерзкую и, не к ночи будь сказано, натуральную философию. Отец Евлампий грешным делом заглянул одним глазком в книжку по этой самой натуральной философии. Господи, пресвятая Богородица! Лучше бы он туда не заглядывал. Кем же это надо быть, чтоб таких тварей понавыдумывать?
По счастью, княжну отец Евлампий отыскал довольно быстро — по крайней мере, не пришлось ноги бить, блуждая по бесконечным аллеям вязми-тиновского парка, более всего похожего на дикий лес, в коем кто-то смеха ради понатыкал бесстыжих мраморных болванов. Княжна говорит, будто в красоте этой срама никакого нету. Ну, Бог ей судья, а отцу Евлампию переучиваться поздно. Хорошо еще, что матушка Пелагия Ильинична всех этих Венер да Аполлонов не видала. То-то крику было бы!
Княжна отыскалась в самом дальнем конце длинной липовой аллеи, где посреди круглой полянки блестел неподвижной водой искусственный пруд. Над прудом белела недавно построенная беседка с полукруглой крышей, и там-то, в беседке, батюшка и углядел княжну. Судя по склоненной голове, та читала, а может быть, и не читала вовсе, а, наоборот, дремала, убаюканная мирной красотой этого места. Потом отец Евлампий увидел, как княжна подняла руку и поправила выбившуюся из-под шляпки прядь волос — значит, все-таки не спала, читала. Оно и к лучшему, решил батюшка, — по крайней мере, будить не придется.
До беседки оставалось не менее полусотни шагов, когда княжна вскинула голову и обернулась, потревоженная шорохом травы под сапогами отца Евлампия. Это движение, стремительное и грациозное, почему-то заставило батюшку с грустью вспомнить двенадцатый год: ничто не прошло бесследно, и княжна, видно, ничего не забыла, и если бы, не дай Бог, было сейчас при ней ружье, то, глядишь, и пальнула бы, не успев даже разглядеть, кто там крадется. А как она стреляет, это всем известно: не каждый мужчина так сможет.
Разглядев отца Евлампия, княжна поднялась. Батюшка, хоть и старался соблюдать приличествующую степенность, поневоле ускорил шаг и потому добрался до беседки хоть и быстро, но изрядно запыхавшись. Княжна, совсем как давеча лакей, склонилась перед ним, прося благословения, но тут же выпрямилась, снова сделавшись прямой, как древко хоругви.
— Что же вы, батюшка, — с укором произнесла Мария Андреевна, — слугу за мной не послали? Аллея-то длинная! Глядите, как запыхались. А у меня здесь и угостить вас нечем.
— Слуги твои, матушка, тебя пуще гнева Божьего боятся, — отдуваясь, отвечал отец Евлампий. — Насилу дознался, где ты хоронишься. Представь, говорить не хотели! Что читаешь, княжна? Мнится мне, что не Священное Писание!
Княжна рассмеялась.
— Нет, батюшка, не Писание. Грешна.
— Грешна, грешна, — не стал спорить отец Евлампий. — Небось, романы французские, богопротивные, или, того хуже, экономику свою бесовскую, от коей одно беспокойство и смятение умов.
— Нет, батюшка, на сей раз вы не угадали. Сие есть «Пир», сочинение греческого философа Платона.
— Ага, — сказал отец Евлампий озадаченно. Отношение батюшки к сочинениям греческого философа Платона было сложное, ибо толком он их не читал даже в семинарии, а понаслышке знал только то, что Платон сей был еретик и идолопоклонник и жил как раз в те времена, когда люди знать не знали об истинной вере и рубили из камня бесстыжие статуи, коих копии были во множестве расставлены по княжескому парку. — Ага, — повторил отец Евлампий и задумчиво почесал кончик носа, косясь при этом на обложку толстой книги в раззолоченном переплете.
Буквы на переплете были отчасти похожи на русские, но только отчасти — греческие, словом, были буквы. Батюшку вдруг — как всегда, не к месту и не ко времени — разобрало любопытство, служившее основополагающей причиной многочисленных епитимий, кои отец Евлампий налагал на себя собственноручно и после ревностно исполнял. Так он и жил — то грешил, то каялся, — утешаясь лишь тем, что грешит не по злому умыслу, а кается от всей души. Вот и сейчас он почувствовал, что впадает в грех: ему до смерти захотелось узнать, о чем же все-таки писал этот нечестивец. Ясно, что там, под золоченым переплетом, сплошная ересь, но ведь любопытно же! Да и потом, тому, кто крепок в вере, никакой искус не страшен. Эвон, княжна читает, и ничего, рога у ней на голове не выросли...
Можно было, конечно, попросить у княжны книгу на время — она бы дала и даже смеяться бы не стала. Ну, разве что задала бы парочку ехидных вопросов, так что с нее возьмешь, с девчонки? Да вот беда: в древнегреческом наречии отец Евлампий был не силен — то есть не знал на нем ни слова.
— Ага, — в третий раз повторил отец Евлампий, не зная, что сказать. Ему снова пришло в голову, что служить духовным наставником для княжны Вязмитиновой — дело нелегкое. Тут он вспомнил, что смирение и самоуничижение суть христианские добродетели, и, преодолев смущение, спросил: — Ну, и что ж он пишет-то, твой Платон?