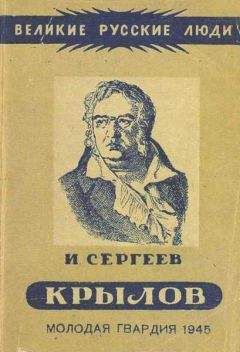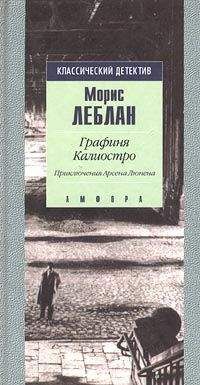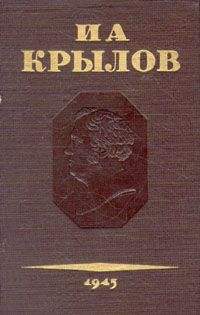Далия Трускиновская - Ученица Калиостро
— Должно быть, это справедливо. Он тоже, может быть, не захотел бы со мной разговаривать, увидев, чем я стала… Слыхали ль вы когда-нибудь, что наши мертвые — это наша совесть? Что может быть стыдно перед убитым мужем, убитым сыном, и не стыдно — перед живыми, даже перед самим Господом?
Такую премудрость Маликульмульк слышал впервые и невольно вздохнул — похоже на правду…
— Мне стыдно за многое, и все началось с того дня… Впрочем, неважно, он бы тоже не вспомнил, будь он жив, мужчины бывают так невнимательны… Но сейчас я не для того пришла к вам… Это… это было необходимо, понимаете?
Маликульмульк уже был не рад, что залез в этот экипаж. Какая-то вселенская нелепость положения вдруг предстала перед ним: крошечное пространство, крошечная дама, почти старуха, и он — здоровенный медведь, который, казалось бы, расправит плечи — и экипаж затрещит. А меж тем — боится шелохнуться… отчего?!.
— Доводилось ли вам убивать? — вдруг спросила графиня. — Не на войне, где мужчины стреляют все разом, и никто не может быть уверен… Убивать так, чтобы наверняка… и видеть страдания, мучения невинного существа?
Вопрос был неожиданный, из тех, что временно лишают дара речи. Маликульмульк видел смерть — смерть отца и матери. После этого он жил в мире, где почти не было тех, кто чаще всего умирал, детей и стариков, — они обретались где-то на задворках прекрасного мира, в котором читались и переводились трактаты знаменитых французов, маркиза д’Аржана и Луи-Себастьяна Мерсье, писались и ставились пьесы, выпускались журналы, звучала музыка Гайдна и Моцарта. Там убивать и умирать как-то не приходилось, не те правила…
Он покачал головой, глядя на женщину с тревогой — ведь она уже однажды намекала, что замешана в каком-то преступлении. И две смерти, к которым она имела какое-то подозрительное отношение…
— Никогда не убивайте — лучше тюрьма, лучше каторга. Из тюрьмы выходят — прошли те времена, когда туда сажали навеки, кардинал де Ришелье давно в могиле… И каторга — я не знаю, я там не была, но мне кажется, мысль о том, что ты за свое злодеяние расплачиваешься при жизни, должна как-то утешать и поддерживать… или нет?..
— Трудно сказать, сударыня. Мне не приходилось совершать таких злодеяний, чтобы… — и тут Маликульмульк осекся.
Он выигрывал немалые деньги — но ведь кто-то, по ту сторону стола, с этими деньгами расставался. И не столь безболезненно, как сам Маликульмульк в случае проигрыша. Кто-то, как несчастный Дивов, закладывал дом и продавал имущество семьи, чтобы достойно сесть к столу, а потом? Что могло быть потом с человеком, чьи деньги философ преспокойно сгреб и унес?
— Я убила женщину, — сказала Мартышка. — Вы первый, кому я вслух и открыто говорю об этом. И эта женщина меня преследует!
— Боже мой… — пробормотал Маликульмульк.
Всякое он думал о Мартышке — лишь в безумии ее не подозревал.
— Я не шучу, мне, поверьте, не до шуток. Это было в Англии. Она меня преследует и подсылает ко мне злодеев. Сейчас вы все поймете. Я расплачиваюсь за давние ошибки! Все, что со мной происходит, — цепь расплат и воздаяний. Выслушайте — я знаю, что вы меня поймете! Только вы имеете право знать, только вы…
— Да почему же?
— Потому что я вас люблю, — тихо сказала она. — Ну вот, эти слова сказаны, но пусть они вас не тревожат, забудьте их. Вы для меня — тень моего покойного супруга, я не могу вас не любить, понимаете? Вы — его посланец! Вы пришли за моей любовью…
Все это было страшновато и совершенно непонятно. Слова, которых до сих пор никогда в жизни не доводилось слышать, прозвучали — в темноте, в чужом экипаже, и произнес их по-девичьи звонкий, печальный и усталый голос.
В прежней своей, столичной, жизни Маликульмульк знал не столько женщин, сколько женские типы: пятнадцатилетнее невинное дитя; молодую и лихую кокетку; ханжу, щеголяющую благочестием и втайне содержащую любовника; влюбчивую старушку; хитрую старуху из простонародья; ловкую субретку. Он полагал, что для драматурга этого довольно — а разве есть еще какие-то особы прекрасного пола? Любую можно было, отбросив незначительные подробности, пометить, как печатью, титулом кокетки или старухи.
И вот, извольте радоваться, графиня де Гаше! И это обреченное «потому что я вас люблю…»
— Сударыня, вы чересчур взволнованы, — сказал Маликульмульк. Сказал как-то слишком быстро.
— Это хорошо! Значит, я наберусь мужества и расскажу вам всю правду. А правда такова — я изменила мужу и стала подругой графа Калиостро. То, что я была молода и неопытна, меня не оправдывает — у меня уже был сын, мать — это совсем иные обязательства перед семьей, вы понимаете… и перед Господом, но мы тогда о нем не думали, все было так заманчиво… Меня погубили мой пылкий нрав и любознательность — когда мои подруги часами совещались с парикмахерами, придумывая новые прически, я читала, о, я много читала! Графу было совсем нетрудно обольстить меня — он предложил мне стать его ученицей. Боже, чего он только не обещал! Он обещал мне владычество над всем миром! А я верила… Он уже тогда заметил во мне эту легковерность и воспользовался ею. Он для начала сделал меня своей «голубкой» — вы знаете, что это?
Про «голубков» графа Калиостро не так давно рассказывали Голицыны.
— Знаю. Это человек, которого граф вводил в полусонное состояние, чтобы его устами говорили духи, — ответил Маликульмульк. — В том числе и духи умерших, кажется. Но в «голубки» годятся только дети и невинные девушки — или же я чего-то не знаю?
— Не знаете, но я расскажу. В «голубки» годятся люди, склонные слишком верить тому, что им говорят. А я — именно такая. Я верю всем комплиментам и всем угрозам — вот в чем моя беда. Я верю людям — а потом мне приходится собираться с силами, чтобы дать им отпор. Мне говорили, что я страшна в гневе, — нет, я не гневлива, мне приходится совершать над собой насилие, чтобы защититься, иначе меня погубят! Отсюда и мои странные поступки. Я вдруг вижу, куда меня может завлечь мое доверие, и вырываюсь, как зверь из ловушки… вы меня понимаете?.. В такие минуты я не отвечаю за свои поступки. Мне кажется, что если бы для спасения своей жизни мне нужно было пробежать по натянутому канату — в такую минуту пробежала бы, хотя я страшно боюсь высоты.
Маликульмульк слушал — слушать он умел.
— Что же вы не задаете вопросов? — вдруг спросила графиня де Гаше, прикоснувшись ноготком к его руке.
— Вы сами все очень хорошо рассказываете. Я только не знаю, для чего…
— Молчите! Все вы знаете, вы только боитесь. Не бойтесь, вам ничто не угрожает. И моя любовь не угрожает — если вы только не привыкли называть любовью обыкновенную похоть. Это иное…
— Нет, — помолчав, ответил он. — Я разделяю любовь и похоть. И я знал истинную любовь…
Образ Анюты в белом платьице, идущей по лугу, явился ему вдруг — Анюты в шляпе с неимоверно широкими, затеняющими все лицо полями, и в платьице изумительно простом, только подпоясанном голубой лентой. У ног ее подскакивала, ловя букетик, белая кудлатая Фиделька.
Это было, как картина, где любимой всего пятнадцать лет, как сейчас — сорванцу Тараторке. Но Анюте никогда больше не будет пятнадцать, значит, и Анюты больше нет в этом лучшем из миров. Та, которой теперь двадцать пять, — уже не Анюта.
— Тогда слушайте. Я мужа сперва принимала, как неизбежное зло — надобно же за кем-то быть замужем. Впрочем, мы неплохо ладили, я вообще очень уживчива. Потом я познакомилась с графом Калиостро. Он тогда уже был Великим Коптом египетских масонов. Он дружил с английскими масонами, которые учат, что посредством магических церемоний и формул люди могут управлять духами, вызывать тени покойников, превращать неблагородные металлы в золото. О том, что он мог превращать железные гвоздики в золотые, вы, наверно, слыхали. Он жил роскошно — лучшие экипажи, слуги в дорогих ливреях… Он объездил весь свет и всюду его прекрасно принимали — и в Германии, и в Англии, и в Египте, и в России…
Маликульмульк удержался от возражений. И впрямь, принимать-то принимали, а потом и выставили вон. Обморочить государыню ему не удалось — вот уж кто никогда не был «голубкой»!
— Он умел приготовить эликсир молодости, который пил сам и давал пить супруге. Деньги текли к нему рекой. У него, кажется, был лишь один недостаток — он плохо говорил по-французски. Скорее всего, он был с Востока, может быть, даже из Палестины. Но не это главное… Где появляются деньги — там появляются и дурные люди. Я стала «голубкой», чтобы моими устами говорили духи стихий! А им хотелось, чтобы учитель превращал стекляшки в бриллианты. И было несколько странных случаев… я до сих пор не знаю, что это было… Учитель умел заставить духов рассказывать о кладах, о семейных тайнах; наверно, я что-то такое говорила вслух… «голубки» ведь почти ничего не помнят, в это трудно поверить, но это так. И, к тому же, все знали, что учитель мне доверяет… Весь Париж знал…