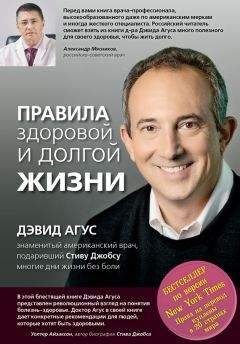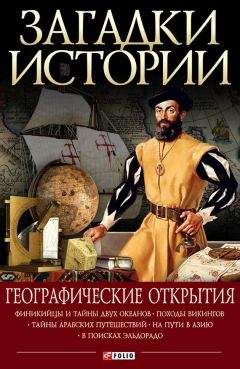Дэн Симмонс - Колокол по Хэму
На рассвете Хемингуэй получил запечатанный пакет и спустился вниз. По прошествии некоторого времени он вновь появился на палубе и велел Фуэнтесу и Ибарлусии поднимать якорь.
— Мы возвращаемся в Кохимар, — объявил он, раскладывая карту на пульте управления ходового мостика яхты. — Пополним там припасы. Лукас, ты отправишься в финку и будешь управлять «Хитрым делом». Всем остальным приказано явиться... вот сюда. — Он ткнул пальцем в карту.
Мы вытянули шеи. Хемингуэй указывал на скопление островов неподалеку от Камагуэя, у северного побережья центральной Кубы, где мы еще не бывали.
— Лукас, — сказал он мне, пока яхта, раскачиваясь на волнах, возвращалась в порт, — ты должен не только присматривать за лавочкой, но и следить за «Южным крестом». Дашь нам радиограмму, как только он соберется выйти в море.
— Слушаюсь, — отозвался я. В чем бы ни заключались «секретные распоряжения», Хемингуэй не пожелал рассказывать мне о них. Это нимало не беспокоило меня, но было жаль, что «Пилар» отправляется в настоящий поход, а меня оставляют торчать на берегу. Море нравилось мне больше, чем ферма, и сколь бы глупыми ни были наши «учения», каждая минута, проведенная в плавании, казалась мне чем-то намного более реальным, нежели операции «Хитрого дела».
* * *В отсутствие Хемингуэя я руководил «разведывательной сетью», присматривал за Марией и размышлял о писателе.
« Выясни, кто он и что он», — приказал мне Гувер, а я отнюдь не был уверен, что хотя бы начал выполнять его задание.
Сидя на берегу, я думал о том Хемингуэе, которого видел в море.
На мой взгляд, лишь немногие обстоятельства способны вскрыть истинную сущность человека. Вероятно, одно из них — поведение на поле боя, но мне трудно об этом судить, поскольку я не бывал на войне. Мои схватки были тайными, скрытыми от постороннего взгляда, длились секунды или минуты, и единственной наградой было выживание. Еще одно испытание — это когда опасности подвергаются твои близкие, но у меня никогда не было семьи, которую я должен защищать... или могу утратить — во всяком случае, с тех пор, когда я достиг зрелости.
Но море... это испытание я чувствовал всей душой.
В море ходят сотни, тысячи людей, однако удалиться от берега на собственной яхте так, что теряешь его из виду — а Хемингуэй проделывал это регулярно, — совсем иная, куда более опасная вещь. Характер человека проявляется в том, как он воспринимает море — безразлично или с уважением, которого оно заслуживает, — и не мешает ли ему собственное "я" ощущать ту грозную силу, которая окружает человека или горсточку людей, оказавшихся наедине с открытым океаном.
Хемингуэй относился к морю с уважением взрослого человека. Он стоял на мостике, широко расставив босые ноги и привычно, бессознательно борясь с качкой; его обнаженная грудь потемнела под солнцем, темные волосы блестели от пота, лицо покрывала двухдневная щетина, глаза прятались в тени длинного козырька кепки. Хемингуэй воспринимал море всерьез. От его мальчишеской бравады не оставалось и следа, когда он наблюдал за погодой, изучал течения и приливы, возвращаясь в порт, когда падал барометр или на горизонте появлялся хотя бы намек на шторм... либо встречал бурю лицом к лицу, если было невозможно укрыться в спокойной бухте. Хемингуэй никогда не отлынивал от работы на своей яхте, никогда не отказывался стоять «собачью вахту», не жаловался, когда приходилось откачивать зловонную воду из трюма, возиться с двигателем по уши в масле или прочищать засорившийся гальюн. Он делал все, что требовалось сделать.
Мой отец погиб в Европе, когда мне было шесть лет. Он ушел из дома, когда мне исполнилось пять. Судя по двум сохранившимся фотографиям, мой отец ничем не напоминал Хемингуэя. У писателя была выпуклая грудь, кривоватые ноги, могучая шея и огромная голова, а отец был худощавым, с длинными пальцами, узким лицом и кожей, которая летом темнела до такой степени, что незнакомые люди зачастую звали его ниггером.
Однако что-то в том, как Хемингуэй держался во время плавания, всколыхнуло мои воспоминания об отце и особенно о дяде — вероятно, ловкость, с которой он балансировал на палубе, и его привычка вести беседу, ни на минуту не отвлекаясь от наблюдения за морем и погодой. Хемингуэя никак нельзя было назвать ловким человеком — я уже заметил, что с ним то и дело происходят досадные неприятности, и что у него плохое зрение, — однако на палубе «Пилар» он двигался с изяществом, которое дается только прирожденному мореходу.
Я начинал осознавать, что Эрнест Хемингуэй относится к морю с тем же напряженным вниманием, что и к словам женщин, которые с ним разговаривают — по крайней мере, тех из них, которые ему интересны. Вероятно, Хемингуэй поступал так по одной и той же причине — полагая, что они могут чему-либо его научить.
А учился он быстро — это я уже усвоил. В ходе наших бесед выяснилось, что он не бывал в море мальчишкой и лишь изредка — молодым мужчиной, если не считать двух плаваний за океан на больших судах; в первый раз он отправился на войну в качестве водителя санитарного фургона и вернулся раненым ветераном, во второй — поехал в Европу журналистом и вернулся женатым мужчиной, собираясь поселиться с супругой в Канаде. И только в 1932 году Хемингуэй начал регулярно выходить в море на малом судне «Анита», которое принадлежало его другу по имени Джо Рассел, жившему на Ки-Уэст. Рассел преподал Хемингуэю азы кораблевождения, обучил его искусству контрабанды спиртного — так, по крайней мере, утверждал сам писатель — и пригласил на глубоководную рыбалку в кубинских водах.
Ибарлусия и другие рассказывали, что в последнее время Рассел зачастил на Кубу и Хемингуэй принимает его, как любимого дедушку. Он берет престарелого бутлеггера на «Пилар», подносит ему лимонад, то и дело спрашивая: «Вам удобно, господин Рассел?» Хемингуэй по-прежнему чтил своего наставника, хотя они уже давно распрощались с ролями учителя и ученика.
Я видел, что это — еще одна черта характера писателя, которую не замечают и недооценивают окружающие. Хемингуэй был одним из редких людей, которые позволяют другим приобщить себя к их страстям — например, к бою быков, ловле форели, охоте на крупных зверей, глубоководной рыбалке, умению разбираться в изысканных винах и яствах, лыжному спорту, военной журналистике — и спустя несколько лет, а то и месяцев уже сам Хемингуэй становился знатоком и мог с полным правом рассуждать о красоте и увлекательности занятия, которое интересует собеседника и которым, в свою очередь, заинтересовался он сам. И даже бывшие учителя преклонялись перед познаниями Хемингуэя, видя в явном дилетанте настоящего специалиста, которым тот стал.
До сих пор Хемингуэй оставался сущим ребенком в разведке; все, что бы он ни предпринял в этой области, было наивным бредом. Что, если бы я начал учить его реалиям этой игры? Не превратится ли он в считанные месяцы из любителя в серьезного профессионала, не познает ли все тонкости шпионажа и контрразведки — точно так же, как познал грозные прихоти и капризы океана?
Возможно. Но я не видел причин учить его этому. Во всяком случае, пока.
* * *Дельгадо мгновенно уловил иронию, прозвучавшую в моем голосе, когда я сообщил, что остаюсь руководить «Хитрым делом» на время первого десятидневного похода Хемингуэя к архипелагу Камагуэй.
— Тебя прислали сюда наблюдать за этим дурацким предприятием, — сказал Дельгадо. — Теперь ты его возглавил.
Я пропустил его слова мимо ушей. У меня не было времени спорить.
С отъездом Хемингуэя и его друзей в финке воцарилось относительное спокойствие. Садовник Пичило лениво слонялся среди клумб и газонов, столяр Панчо Кастро пилил и стучал молотком, сооружая в доме все новые книжные полки и посудные шкафы, время от времени слышались проклятия и ругань повара Рамона, а Рене Валлиреаль, старший слуга Хемингуэя, крадучись, словно кот, обходил поместье, понукая остальных работников и следя за хозяйством в отсутствие Роберто Герреры, который обычно исполнял обязанности управляющего. Сейчас Роберто находился в море вместе с хозяином.
Весь май и начало июня Хемингуэй и Геллхорн устраивали в усадьбе долгие воскресные вечеринки. Здесь неизменно собиралась большая оживленная толпа; как правило, присутствовали одни и те же лица — посол Браден с супругой, кучка басков, возглавляемая игроками хай-алай, сотрудники посольства — Эллис Бриггз и Боб Джойс с женами и детьми, — кое-кто из испанских священников, чаще всего дон Андрее, а также наши миллионеры, Уинстон Гест и Том Шелвин; бывали здесь и заезжие яхтсмены. Пока «Южный крест» ремонтировался, Хельга Соннеман два или три раза навестила финку, но Теодор Шлегель больше не появлялся. Помимо завсегдатаев, здесь бывали самые разные люди из тех, что заглядывают на огонек и остаются на ужин или вечернюю выпивку, — например, Келли по кличке Горе-мореход, знаменитые местные рыбаки, вроде Карлоса Гитерреса, и старые друзья Хемингуэя, приехавшие с Ки-Уэст повидаться с писателем и его женой.