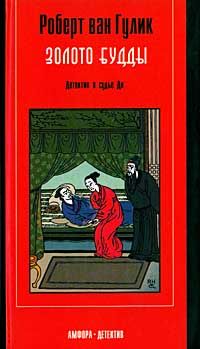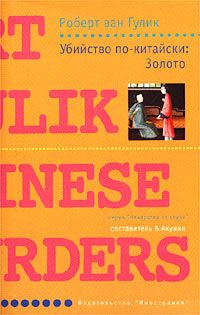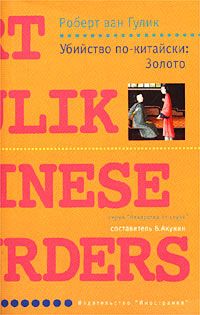Сергей Степанов - Догмат крови
Богров, попросив у судьи разрешение воспользоваться правами защитника, обратился к начальнику охранного отделения: «Николай Николаевич, не изволите ли припомнить, как я приехал к вам домой поздно ночью перед покушением? Так вот: я должен был убить вас по заданию Степы. Браунинг с восьмью пулями лежал в моем кармане. Но вы уже легли спать, вас пришлось будить, вы вышли без мундира, радушно со мной поговорили, и у меня не поднялась рука стрелять в беззащитного человека, хотя при данной обстановке были все шансы скрыться после покушения». — «Спасибо, голубчик», — совсем растерявшись, поблагодарил Кулябко.
Свою защитную речь Богров построил на том, что не отдавал отчета в собственных поступках: «Я вовсе не собирался убивать премьер-министра. Остановил я свой выбор на Столыпине, так как он был центром общего внимания. Когда я шел по проходу, то если кто-нибудь догадался спросить меня, что мне угодно, то я бы ушел. Но никто меня не удержал и я выстрелил два раза».
Когда суд удалился на совещание, несколько чинов судебного ведомства вышли покурить на винтовую лестницу. Они вполголоса обсуждали услышанное. «Врет он все насчет Кулябко, — убежденно говорил один из судейских. — Начальник охранного отделения не того полета птица, чтобы ради его убийства устраивать такую механику». Впрочем, курильщики даже не успели толком обменяться впечатлениями, как секретарь возвестил, что суд возвращается в зал. «Однако-с! — изумился кто-то, щелкая крышкой золотых часов. — Военная юстиция славится скорострельностью, но сегодня просто из ряда вон! Заседание открылось в четыре пополудни, а в половине десятого готов приговор. Десять против одного, что столыпинский галстук».
Приговор был кратким. Мордка Гершков Богров, именующий себя Дмитрием Григорьевичем, 24 лет, помощник присяжного поверенного, вероисповедания иудейского, был признан виновным по всем пунктам обвинительного акта и приговорен к смертной казни через повешение. «Вам все понятно?» — обратился к приговоренному генерал Рентгартен. «Могу ли я подать жалобу?» — спросил Богров. «Приговор военно-окружного суда обжалованию не подлежит». — «Я не о том. Меня отвратительно кормят, дают какую-то баланду. Этак я окончательно испорчу себе пищеварение». Военный судья, оторопело глядя на человека, которому осталось жить 48 часов, пообещал: «Я распоряжусь улучшить ваш стол».
За спиной Фененко раздался грохот, заставивший его обернуться. Гладкошерстная черная кошка опрокинула канделябр. Из-за портьер уже пробивался мутный рассвет. Фененко не решился взять за шкирку глупое животное. Ляле эта шкодливая кисуля-чернуля, как она жеманно выговаривала, была дороже мужа и любовника, вместе взятых. Следователь шикнул, и черная кошка гордо удалилась. В доме тепло и сухо, а на улице непролазная ноябрьская слякоть и сырость. Не ходить бы никуда, проваляться до обеда в постели вместе с Лялей, поласкать ее, горячую и сонную, отнести на руках в ванную, выкупать, как купают няни малых детей в ванночке, а потом смотреть на то, как она священнодействует с притираньями и духами. Но об этом нечего и мечтать.
По правде сказать, еще вчера нужно было произвести осмотр кирпичного завода. Делалось это по распоряжению прокурора палаты, которого все тот же вездесущий студент Голубев уверил, что в конюшне, в помещении шорной мастерской, хранятся швайки, которыми якобы искололи Андрея Ющинского. Но пока составлялось официальное предписание произвести обыск, Ляля прислала записочку, что Лашкарев уезжает на два дня, и они могут встретиться у нее дома. После этого Фененко, разумеется, отложил обыск, тем более что Ляля попросила заехать на Бессарабку купить хороших фруктов. Следователь ограничился тем, что послал письмоводителя опечатать помещение с инструментами и телефонировал управляющему заводом Хаиму Дубовику, что завтра он произведет обыск в конюшне и просит подготовить понятых, чтобы не терять зря время. Дубовик выразил готовность оказать полнейшее содействие судебному дознанию, не преминув вставить, что в шорной мастерской ничего нет. Фененко сказал, что он прекрасно знает, что глупо искать на заводе, но от него, увы, мало что зависит. Дубовик заверил, что осведомлен о непричастности господина судебного следователя к ложному навету. Почтенный интеллигентный еврей!
Тихо одевшись, следователь вышел в коридор. Молодая заспанная горничная в халатике, второпях наброшенном прямо на голое тело, подала ему калоши.
— Когда возвращается барин? — спросил Фененко.
— Обещали непременно быть послезавтра.
— Вечером я опять загляну, — он шутливо потрепал горничную пониже спины. — Привезу барыне в подарок пеньюар, а старый попрошу отдать тебе.
— Розовый? Как же, барыня подарит! Зря провисит в шкапу, хоть он давно ей тесен в грудях, — съязвила горничная. — Да ну вас! — увернулась она от его руки, но не слишком быстро.
Фененко вышел на Банковую улицу. В синих сумерках дом за его спиной казался ночным кошмаром. Стены заполонили земные и морские чудовища: из слоновьих хоботов текла дождевая вода, тупые носорожьи морды нависли над колонами, в чьих каннелюрах притаились ящерицы и змеи. Под карнизами прятались мартышки, на крыше сидели рядком раздувшиеся жабы, которые составляли компанию наядам, забравшимся на спины усатых полурыб-полудельфинов. Про этот дом в Киеве ходили легенды. Рассказывали, что архитектор Городецкий якобы увековечил в сказочных фигурах память о своей дочери, утонувшей во время морского путешествия. На самом деле дочь архитектора была жива и здорова, а Городецкий взялся за этот проект, поскольку ему почти даром достался участок земли в самом центре города. Участок был неудобным для застройки: на обрывистом берегу Козьего болота, теперь уже осушенного и застроенного. Коллеги по архитектурному ремеслу уверяли, что на обрыве нельзя возвести дом, но Городецкий заключил с ними пари и выиграл. К тому же ему повезло заключить выгодный контракт с иностранной фирмой, торгующей цементом. Фирма была заинтересована в рекламе своей продукции, и архитектор покрыл фасад множеством скульптур и барельефов, чтобы показать удивительные возможности нового строительного материала. Экзотические животные были выбраны Городецким потому, что он являлся страстным охотником и ездил в Африку стрелять слонов и носорогов.
Доходный дом на Банковой улице строился с расчетом на богатых жильцов. Все квартиры были барскими, в цокольном этаже располагался гараж, хозяйственные службы и даже коровник, чтобы жильцы каждое утро имели возможность пить парное молоко. Арендная плата начиналась от двух тысяч рублей в год. Однако с коммерческой точки зрения затея оказалась провальной. Киевляне толпами ходили поглазеть на вычурный дом, но жить в бетонном зверинце никто не хотел. Была занята только одна квартира, самого архитектора. Между тем поездки в Африку и другие дорогостоящие увлечения подорвали его благосостояние. Находясь на краю банкротства, он был вынужден понизить арендную плату, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Ляля, обожавшая все оригинальное и экстравагантное, прельстилась возможностью переехать в дом, о котором судачил весь Киев. По правде сказать, даже пониженная плата была не по карману товарищу прокурора окружного суда, но Фененко решил помочь друзьям. Ляля Лашкарева была в восторге, но сам следователь ни за что бы не выбрал такой пугающий дом.
Мимо Фененко промчалась коляска-эгоистка, рассчитанная на одного седока. Раздалось громкое «Тпру-у!», и кровный жеребец, осаженный сильной рукой, замедлил свой бег и остановился шагах в двадцати впереди следователя. Жандармский подполковник Иванов ловко соскочил с высокого сиденья и предстал перед следователем во всей красе — высокий, статный, в наброшенной на широкие плечи шинели с голубым отливом. Следователь смущенно кашлянул:
— Я того… заглянул на Банковую к товарищу прокурора… а он, оказывается, уехал по округу.
— Жаль, не застали! — посочувствовал подполковник с такой непроницаемой миной, как будто не знал подноготную своих соседей.
— Как дела на службе? Внутренние враги не дремлют? — с тонкой иронией осведомился судебный следователь.
— Внутренние враги могут спокойно заниматься революционной пропагандой, — подполковник безнадежно манул рукой в белой перчатке. — Нам сейчас не до них. Отдуваемся за дела, которые натворил Кулябко со своими дуболомами из охранного.
Неприязнь между охранными отделениями и губернскими жандармскими управлениями стала традицией. Принадлежа к одному ведомству, они, тем не менее, подсиживали друг дружку, стараясь выставить собственные заслуги и опорочить конкурента. В Киеве ситуация усугублялось тем, что киевское охранное отделение являлось районным, то есть осуществляло руководство политическим сыском во всем Юго-Западном крае. Таким образом, перед подполковником Кулябко вынуждены были отчитываться жандармские генералы, возглавлявшие губернские управления. Вдобавок Кулябко, служивший штабс-капитаном в пехотном полку, был сравнительно недавно переведен в корпус жандармов и получил высокий чин вне всякого порядка чинопроизводства. Кадровые жандармские офицеры ненавидели выскочку, сделавшего карьеру благодаря протекции своего шурина Спиридовича, близкого к двум могущественным лицам — дворцовому коменданту и командиру корпуса жандармов.