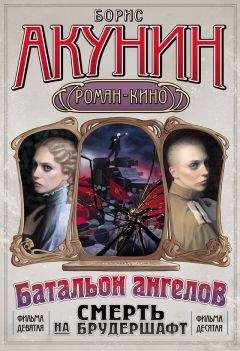Борис Акунин - Алтын-Толобас
* * *
Корнелиусу фон Дорну было очень скверно.
Он дрожал от холода в узком и тесном каменном мешке, куда его головой вперед запихнули тюремщики Константино-Еленинской башни.
Башня была знаменитая, ее страшилась вся Москва, потому что здесь, за толстыми кирпичными стенами, располагался Разбойный Приказ, а под ним темница и дознанный застенок, из-за которого башню в народе называли не ее природным красивым именем, а попросту – Пытошной.
По ночному времени схваченного на митрополитовом подворье разбойника дознавать не стали, а сунули до утра в «щель», выемку длиной в три аршина, высотой и шириной в один – не привстать, ни присесть, да и не перевернуться толком. Больше суток в такой мало кто выдерживал, а иные, которые сильно тесноты боятся, и ума лишались. Служители приказа, люди опытные и бывалые, знали: кто в «щели» ночку пролежит, утром на дознании как шелковый будет. И палачу возни меньше, и дьяку облегчение, и писцу казенную бумагу на пустые враки не переводить.
Первые минут пять оцепеневший от ужаса капитан бился во тьме, стукаясь затылком о твердое, а локтями утыкаясь в камень. Дверцу – не дверцу даже, заслонку – за ним захлопнули, оставили малое окошко, чтоб не задохся.
Потом фон Дорн стиснул зубы и велел себе успокоиться. Брат Андреас, до того как уехать в Гейдельбергский университет, а после в монастырь, часто говорил с Корнелиусом, тогда еще подростком, о природе страха. В ту пору Андреас почитал худшим врагом человеческим не десять смертных грехов и не Дьявола, а страх. «Страх – это и есть Дьявол, все наши несчастья от него», – повторял старший брат. И еще: «Никто не напугает тебя так, как ты сам. А ведь бояться-то нечего. Что уж, кажется, может быть страшнее смерти? Только и смерть вовсе не страшная. Она не только конец, но и начало. Это как в книге: нужно прочитать до конца одну главу, а на следующей странице начнется другая. И чем лучше твоя книга, тем вторая глава будет увлекательней».
Как же еще-то он говорил?
«Если тебе плохо, помни, что плохое когда-нибудь закончится, и не падай духом. Не бывает так, чтобы человеку совсем уж делалось невмоготу тогда милосердный Господь сжалится и заберет душу к себе. А пока не забрал, крепись».
И Корнелиус стал крепиться.
Ну и что ж, что каменный мешок и не приподняться, сказал он себе. А если б я в постель улегся, спать, к чему мне подниматься? Почивай себе до утра.
Он попробовал представить, что над головой у него не каменная кладка, а бескрайний простор и высокое ночное небо. Если же он не встает, то не от невозможности – просто не желает. Ему и так славно. То волокли по улице, пинали и били, а теперь хорошо, спокойно, и лежать не так уж жестко, солома подстелена.
Утром, когда на дознание поволокут, вздернут на дыбу и начнут кнутом кожу со спины сдирать, эта «щель» раем вспомнится…
Нет, вот об этом думать не следовало – при мысли о застенке худщий враг рода человеческого набросился на Корнелиуса люто, скрутил и так закогтил сердце, что хоть вой.
Только бы утро подольше не наступало!
Повезло Адаму Вальзеру, вышел сухим из воды. Поди, еще затемно, как только ночные дозоры с дорог уйдут, кинется вон из Москвы. Захватит своего ненаглядного Замолея, прочие книги бросит. Ну, может, еще Аристотеля драного прихватит, тяжесть невелика.
Язык он знает хорошо. Нацепит кафтанишко, валенки, шапчонку кошачьего меха – сойдет за русского. Глядишь, и до границы добежит, Бог слабым покровительствует. А там, в Европе, все аптекаревы мечты осуществятся. Переплавит он ртуть, сколько достанет, в золотые слитки и заживет себе вольным богачом.
Так стало горько от этой несправедливости, что дрогнул капитан фон Дорн, заплакал. Что на пытке-то говорить? Называться, кто таков, или уж лучше терпеть, помалкивать? На канцлерову защиту всё одно надежды нет – за убийство в митрополитовом доме боярин Матфеев своего адъютанта сам палачу отдаст… Крикнуть «слово и дело»? Рассказать про тайник, про Либерею? Так всё равно выйдет, что Корней Фондорин вор. Украл царево имущество, и знал, чьё крадет. За это – Вальзер говорил – руку рубят и после на железный крюк подвешивают. Надо будет сначала узнать, как московиты карают за убийство монаха, и тогда уж выбирать, кричать «слово и дело» или помалкивать.
На этой мысли Корнелиус и успокоился. Главное ведь – принять решение, а на остальное воля Божья.
Поворочался немного (солома мало спасала), потрясся от каменного холода и сам не заметил, как уснул.
Назавтра заслонка загрохотала лишь далеко за полдень. Одеревеневшего фон Дорна за ноги вытащили из «щели» и поволокли под мышки из одного подвала в другой, только не холодный, а жаркий, потому что в углу расспросной каморы пылал огонь и приземистый мужик с засученными рукавами, в кожаном переднике, шевелил там, на углях, какими-то железками.
Корнелиус сначала посмотрел на раскаленные клещи, на свисавшую с потолка веревку (это и была дыба), и только потом повернулся к столу, за которым сидели двое: козлобородый дьяк с бледным тонкогубым лицом и молоденький писец, раззявившийся на арестанта с любопытством – видно, пытошная служба ему была внове.
Страха нет, сказал себе фон Дорн, и стиснул зубы, чтоб не стучали. Есть боль, но боль – лишь простой зуд потревоженных нервов. Станут пытать – будем орать, больше всё равно делать нечего.
– Что, вор, разулыбался? – криво усмехнулся дьяк. – Прознал про государеву милость? Я вот вам, длиннобрехам, брехалы-то поотрываю, – сказал он уже не Корнелиусу, а приведшим его тюремщикам.
Те забожились было, что ни о чем таком вору не сказывали, но тонкогубый махнул рукой – заткнитесь.
– По воле всемогущего Бога великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, оставя земное царствие, отъиде в вечное блаженство небесного царствия, а перед тем, как Господу душу отдать (тут дьяк трижды перекрестился), великий государь повелел должникам недоимки простить, колодников и кандальников на волю выпустить и даже убивцев помиловать…
Корнелиус встрепенулся. Значит, царь умер! А перед смертью, должно быть, пришел в сознание и, согласно, русскому обычаю, объявил долговую и уголовную амнистию – чтоб недоимщики и узники за грехи новопреставленного Алексея перед Всевышним поискренней ходатайствовали. Не так уж и дурны, выходит, московитские установления!
– …Только зря ты, тать, возрадовался. До того, как дух испустить, его царское величество особо наказал единственно не делать попущения тем лиходеям, кто людей Божьих до смерти умертвил, ибо се грех уже не перед царем земным, а перед Владыкой Небесным. И ныне ведено вас, извергов, кто попа или чернеца сгубил, казнить не милостиво, как прежде – колесованием, а беспощадно, сажением на кол, прежде того мучительно на дыбе изломав. Берите-ка его, голуби. Слыхали государеву последнюю волю? – Дьяк наставительно поднял палец. – Сказано «мучительно», значит, мучительно.
Глава тринадцатая
НО ЕЕ НАЙТИ НЕЛЕГКО
Работать с начальником департамента безопасности «Евродебетбанка» Владимиром Ивановичем Сергеевым было одно удовольствие.
Этот респектабельный, подтянутый господин в неизменном твиде, с щеточкой коротко подстриженных усов очень походил на английского джентльмена из той породы, что канула в Лету вместе с распадом британской империи. Сходство усугублялось тем, что при первой встрече Владимир Иванович легко перешел с Фандориным на английский, на котором изъяснялся почти без акцента, разве что несколько злоупотреблял американизмами. Потом, правда, беседовали на русском, но время от времени экс-полковник вставлял какой-нибудь иноязычный оборот позаковыристей.
Разместили Николаса в доме неподалеку от Киевского вокзала, где жило много иностранцев и где не вполне туземный вид магистра меньше бросался в глаза. В двух небольших комнатах (кабинет и спальня) имелось всё необходимое для работы и отдыха. Еду постояльцу привозили из ресторана, а когда Фандорину нужно было выйти в город, он находился под постоянным прикрытием неприметных молодых людей в строгих костюмах: двое вышагивали чуть сзади, а вдоль обочины не спеша катил дежурный автомобиль непременно какой-нибудь огромный вездеход с затененными стеклами.
Владимир Иванович заезжал каждое утро, ровно в девять, и еще непременно звонил вечером спрашивал, нет ли новых поручений. С теми, которые получал, справлялся быстро и чётко. Лишних вопросов не задавал, в суть поисков, которыми занимался Николас, не вникал. Если все офицеры Комитета госбезопасности были столь же эффективны, думал иногда Фандорин, просто удивительно, что советская империя так легко развалилась. Очевидно, полковник Сергеев всё же принадлежал к числу лучших.
Один раз Николас побывал в офисе банка, в Среднем Гнездниковском переулке, выпил кофе (без коньяку) в превосходном кабинете Иосифа Гурамовича. Банкир пытался выведать, движется ли «дело», но Фандорин отвечал уклончиво, а от приглашения на ужин отказался, сославшись на крайнюю загруженность работой. «Понимаю, понимаю, – опечаленно вздохнул Габуния. – Даете понять, что у нас чисто деловые отношения. Ладно, больше тревожить не буду. Работайте».
![Игорь Агеев - Неспортивная история [Сценарий, использовавшийся в фильме «Куколка»]](/uploads/posts/books/276798/276798.jpg)