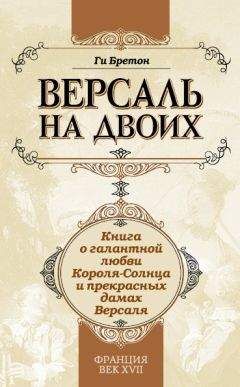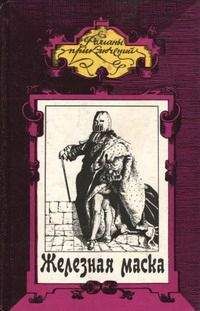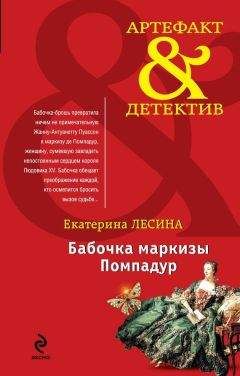Ольга Михайлова - Плоскость морали
— Господи, Сергей… Этого не может быть, он же не сумасшедший!
— Думаю, что он им стал. Его дружок по партии, третьего дня арестованный, рассказал, что ваш кузен был назначен первым метальщиком в подготовленном покушении на одного высокопоставленного чиновника. Собственно, и чиновник-то этот им не пойми зачем был нужен… Ваш братец, я полагаю, немного… потерял себя. Это бывает в преддверии смерти. Это была истерика, глупый жест отчаяния. А может, это надо узнать, он просто пытался… пройти по иному делу. От дружков он теперь надежно спрячется лет на семь… Это лучше петли в Петропавловке.
— Но Елена! Какое отношение она имела ко всему этому? Вы сказали, что эти убийства связаны!
— Не говорил, — покачал головой Юлиан. — Я сказал, что первое убийство спровоцировало второе. Всё просто. Когда из вод Славянки выловили труп Анастасии Шевандиной, я ругался, вы перенервничали, Ростоцкому стало дурно, девицы испугались, Харитонов был ошеломлён и убит, но в одной из мужских голов труп на берегу породил весьма подлые мысли, что свидетельствует, кстати, о том, что не мы с вами одни мерзавцы и градации подлости весьма многообразны. Так вот, в голову его закралась мысль, что недурно воспользоваться этой смертью, чтобы наладить свои дела. Проще сказать, подлец решил сыграть маньяка, рассчитывая, что второе убийство повесят на того, кто совершил первое. Убить же ему было необходимо именно Елену Климентьеву, наследницу двухсоттысячного состояния. В случае её смерти до совершеннолетия наследником становился именно он.
— Деветилевич!
— Верно. Он понял, что Елена никогда не выйдет за него замуж. Между тем видел её влюблённость в меня, подмечал и ваши очарованные взгляды в её сторону. Я уточнил у Белецкого, до совершеннолетия ей оставалось только три недели. Естественно, когда кузен пригласил её прогуляться по парку, Елена ничего не заподозрила. Он же привёл её на мост нашего пруда и быстро затянул шарф у неё на шее. Всё, что оставалось, столкнуть тело вниз. Дальше — он чувствовал себя в полной безопасности, полагая, что убийство спишут на того, кто убил Шевандину.
— Подлец, — зарычал Дибич, — какой подлец… Аристарх… Он не убежит?
— Нет, за ним следят.
Дибич, почувствовав, что ноги совсем не держат, опустился на лавку. Чудовищное открытие лишило его последних сил. Нальянов же и вовсе поразил его. Он сказал Вельчевскому, что в конце недели уедет в Петербург, а пока направился с Валерианом на рыбалку. Дибич проводил обоих недоумевающим взглядом, потом махнул рукой и побрёл к чалокаевскому дому.
* * *Аресты наделали в Павловске и Петербурге много шума. Нальяновы совсем не желали, чтобы их имена мелькали в деле, и честь раскрытия преступления досталась Вениамину Вельчевскому. Белецкая, до того проклинавшая любовь племянницы к ненавистному Нальянову, узнав об аресте своего племянника, упала в обморок, Белецкому тоже стало дурно. Несколько дней Надежда Андреевна провела в чалокаевской летней резиденции: врачи запретили ей вставать с постели. Лидия Чалокаева, надо заметить, проявила к несчастной истинно христианское сострадание, ревностно заботясь о ней.
При аресте Аристарха оторопел даже Левашов: Павлуше и в голову не приходило, на что мог решиться его дружок. Арест Сергея Осоргина тоже поразил всех, впрочем, куда меньше, чем арест Аристарха, однако взятие его под стражу мало что изменило в планах семейства: Елизавета всё равно не отказалась выйти замуж за брата убийцы своей сестры. При этом во время следствия выплыло то дурацкое обстоятельство, которое было подмечено во время следствия братьями Нальяновыми и обозначено ими как «отчаяние». Оказалось, что в печерниковском притоне Сергею не посчастливилось: он по неосторожности подхватил заразу. Отчаяние от необходимости идти на смерть усугубилось отчаянием дурной болезни и, как выразился после Юлиан, отшибло у бедняги последние мозги, и именно отсюда следовала сумбурная глупость его поступка.
Что касается Дибича, то он сразу после ареста Осоргина и Деветилевича уехал. Сначала в Петербург, потом, как говорили, в Париж. Через несколько дней чалокаевская резиденция опустела, увезли Белецкую, с ней в город возвратилась и Лидия Чалокаева. В доме оставались только братья Нальяновы, помахавшие вслед тёткиным рысакам. Потом Валериан с задумчивым видом отошёл от окна. Юлиан бросил исподлобья быстрый взгляд на брата.
— Что с тобой, мальчик мой?
— Знаешь, я подумал, что ты в чём-то и прав, — Валериан поёжился, словно его морозило. — Полтора десятка человек… Обычная толпа любого дома. Эмансипированные нигилистки, проповедующие свободу нравов, но с готовностью поливающие грязью особу, пойманную ими на этой самой свободе. Революционер-сифилитик с уголовными замашками, его братец, с революционными убеждениями и любовью к народу, ведущий под венец десять тысяч приданого, светские львы, чьи интересы не идут дальше денег и сплетен, и готовые при надобности денег до зарезу — бездумно зарезать. Сестры, не могущие, прожив вместе под одной крышей двадцать лет, сказать о своей сестре ничего, кроме того, что она любила курагу, и проповедники нового устройства мира, не умеющие устроить на носу свои собственные на носу и научиться тщательно застёгивать ширинки на штанах. И наконец, поэт, элита нации, хладнокровно заманивающий к себе на ночь девицу, прикрываясь именем соперника…
— Великолепный анализ, Валье, — кивнул Юлиан. — И что?
— И эта страна мнит, что способна указать свет миру? На неё — де направлен таинственный перст Божий — указать дорогу миру?
Нальянов расхохотался, но ничего не ответил брату.
Через минуту поднялся.
— Ты куда-то собрался? — Валериан повернулся к Юлиану.
— Да, я на пару часов. Договорился о встрече.
Глава 20. Исповедь
Люди не смогли даже выдумать восьмого смертного греха.
Теофиль ГотьеВ ночном небе серебристый диск луны отдавал по краям бледно-золотистой желтизной. Юлиан шёл медленно, иногда оглядывался, хоть знал дорогу. У собора остановился. На паперти сидел нищий, раскачивающий головой и бормочущий, что Антихрист уже народился. Нальянов что-то бросил ему в чашку, вздохнул и прошёл в притвор. Человек в чёрном подряснике ждал его, Нальянов отметил мягкий овал лица и глаза Агафангела, сильно увеличенные стёклами круглых очков в тонкой оправе. Монах подошёл к аналою с крестом и Евангелием. Нальянов стал рядом и, отвернувшись, тяжело озирал лик Христа. Долго молчал. Агафангел не торопил, отчего-то временами тревожно вглядываясь в мрачное лицо Нальянова. Агафангела снова поразили глаза исповедника — смарагдовые, тяжёлые, умные.
Юлиан начал рассказывать, поразившись, как услужлива память. А ведь все эти годы он так хотел забыть. Но нет, события былого отпечатались в нем, как в известняке — отпечаток древней раковины диковинного трилобита.
…Это было пятнадцать лет назад. В тот вечер его брат неожиданно вернулся от их тётки, Лидии Чалокаевой, из Павловска, на день раньше. Совсем ещё отрок в свои тринадцать, Валериан поразил тогда Юлиана запавшими глазами и почти чахоточным румянцем. Встревожился и отец, был вызван доктор, и опасения сбылись: к утру мальчик метался в жару. Мать была в Петергофе, и не приехала, написав, что приболела. Юлиан стирал пот, струившийся по вискам брата, поил его мутными снадобьями, и порой в ночи ловил непонятные своей путаной горестью стенания больного в горячечном бреду. Именно из них он понял, что с братом в чалокаевском имении что-то произошло, Валериан был точно запуган домовым, просил о пощаде, порой просто плакал во сне.
Через пару недель недуг отступил, Юлиан, дежуривший у постели брата ночами, валился с ног от усталости. Отец сам предложил ему провести выходные в имении сестры, Валериан смотрел на него огромными испуганными глазами, просил не бросать его, но отец приказал Юлиану ехать.
…Он приехал после Пасхи, в том году — майской. В доме была только компаньонка тётки, её приживалка Нина Соловкина, бывшая Чалокаевой родней по мужу. Юлиану она не нравилась, совсем ещё юный, в свои пятнадцать он видел многое, не подмечаемое другими, и в Нине его раздражали манерничанье, раболепие перед тёткой, вечная льстивость. Девица лет тридцати была даже красива, но отталкивали болезненная полнота груди и огромных широких бёдер. Она, странно поводя глазами, спросила, вызвать ли кухарку, что барин будет на обед и ужин? Юлиан обронил, что ему всё равно, он приехал только на выходные, что есть, то пусть и подадут, и ушёл к себе. Немного читал, спал, вечером вышел прогуляться. Вернувшись, был рад поданному ужину, ломтям сочного мяса и пряной ароматной медовухе. Нина пододвигала ему лучшие куски, но её томный, чего-то ищущий взгляд был неприятен.
…Юлиан помнил, что неожиданно голова странно закружилась, пришла вязкая, как цепляющая за ноги сорная трава, слабость. Он смог подняться и доползти до дивана и тут почувствовал чью-то потную руку, скользнувшую в его сокровенное место. Юлиана сотрясла внутренняя дрожь, он понимал, что чем-то опоён, но сопротивляться не мог. Помнил, как её полное, словно мучное тесто, тело заглатывало его, мерзостно чавкало и давилось им, жгло ощущение страшной, непоправимой катастрофы, слитой со смертной тоской, чувство чего-то ужасного, преступного, постыдного, но всё же сладостного. Потом все погасло.