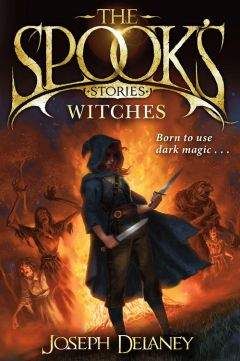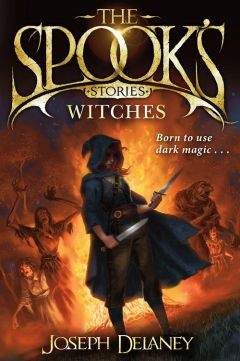Елена Ярошенко - Две жены господина Н.
— Я слушаю вас, господа!
— Ну вот и свиделись, — сказала Мура каким-то чужим, отвратительным голосом. — Думал, спрячешься? Ошибся ты, Николай!
Почему Николай? Колычев обернулся к Муре, заметив, что постоялец меблирашек в испуге сделал пару шагов назад. Мура молчала. Ее лицо казалось окаменевшим. Дмитрий перевел взгляд на постояльца. Кажется, тут происходит совсем не то, чего Колычев ожидал…
— Ты пришла меня убить? Неужели ты сможешь? — растерянно спросил этот человек, глядя на Муру какими-то собачьими, жалкими глазами.
Мура вытащила из муфты руку, в которой был зажат револьвер. Дмитрий оторопел, и только одна дурацкая мысль мелькнула в его голове — какие красивые у Муры пальцы и как изящно она сжимает оружие… Господи, что это за безумие?
— Прощай, Иуда, — медленно произнесла Мура и нажала на курок.
— Мура, ты с ума сошла! Что ты делаешь? — очнулся Дмитрий.
Но она уже всадила три пули в человека из восьмого номера «Феодосии» и перевела ствол на Колычева, который шагнул к ней, чтобы отнять оружие.
— Не подходи, убью!
— Мура, ты сошла с ума? Что ты наделала? Опомнись, отдай мне револьвер…
— Не подходи, сказала! Эх, Митя! Нужно было бы и тебя шлепнуть. Да ладно уж, живи, дурак! Но если дернешься — не пожалею!
Лицо Муры и особенно ее глаза были чужими, холодными и очень страшными.
Колычев подошел к упавшему на диван, истекающему кровью человеку и попытался нащупать пульс. Человек был мертв.
— Ты убила его, — с ужасом глядя на Муру, прошептал Колычев.
— Вот и славно. Добивать не придется, — удовлетворенно ответила она и, продолжая держать Дмитрия на мушке, вынула из двери ключ, выскользнула в коридор и захлопнула дверь. Ключ повернулся в замке снаружи…
Колычев чувствовал, как внутри у него разливается холод, сжимая сердце ледяными лапами, а в висках стучит волнами кровь, причиняя мучительную боль. Он и вправду дурак, идиот последний — на его глазах совершилось убийство, а он не пошевелил и пальцем… Господи, почему он так растерялся, почему не бросился на Муру, как только увидел в ее руках револьвер? Смерть этого несчастного теперь на совести Дмитрия!
Вскочив на ноги, он со всей силы ударил в дверь. Дверь открывалась внутрь комнаты, и выбить ее было не так уж легко, но вспыхнувшая ярость придала Дмитрию сил. Дверная коробка затрещала, планка, в которую был врезан хлипкий гостиничный замок, отошла, и после трех богатырских ударов Колычеву удалось вырваться в коридор.
Он бегом кинулся к выходу, призывая на помощь полицию, людей, швейцара (как всегда, не оказавшегося в нужный момент на месте)… Выскочив на улицу, Дмитрий увидел, как по Николощеповскому переулку удаляется экипаж извозчика, ожидавшего их у входа. В экипаже восседала Мура с гордо поднятой головой. Бегом догнать извозчика было уже невозможно.
Колычев с силой ударил в стену кулаком, разбивая его в кровь… Но ярость, переполнявшая сердце, не находила выхода. Где-то рядом заливался полицейский свисток — привлеченный криками Дмитрия городовой бежал к номерам «Феодосия», оглашая окрестности заливистой трелью.
В жизни Дмитрия Степановича Колычева наступила черная полоса. Сначала его арестовали, но через день выпустили, взяв подписку о невыезде.
Теперь самое мягкое, что могло ожидать Колычева, была бы позорная отставка, а скорее всего — предание суду за пособничество террористке… От исполнения обязанностей судебного следователя он был отстранен «до окончания расследования по делу» (а вероятнее всего, навсегда). Зато приходилось чуть ли не ежедневно посещать кабинеты разнообразного начальства, стоять там навытяжку и выслушивать разносы и самые нелестные высказывания о собственной персоне…
Особенно неистовствовал жандармский полковник, начальник Московского охранного отделения. Бегая по кабинету из угла в угол и брызгая слюной, полковник позволял себе такие оскорбления в адрес Колычева, за любое из которых прежде Дмитрий не задумываясь вызвал бы его на дуэль.
Но теперь оставалось только молчать и терпеть — любые ругательства были заслуженными, и что мог бы сказать ему начальник охранки такого, что Дмитрий не говорил себе сам?
Этот червь тупого отчаяния, грызущий его изнутри, был страшнее всего того, что происходило извне…
Оставаясь вечерами в одиночестве и заново переживая все случившееся, Колычев был близок к тому, чтобы застрелиться. Может быть, по совести говоря, благородный человек, своими руками способствовавший смертоубийству, и должен был свести счеты с собственной жизнью… Но мог ли отважиться на это христианин? Глядя в грустные, мудрые глаза спасителя, глядящие на него с иконы, Дмитрий не находил в себе сил поднести револьвер к виску и нажать на курок…
Василий с Дусей ходили по дому на цыпочках и обменивались скорбными взглядами. Они не знали, чем уж и услужить барину, но ему ничего не было нужно. Колычев ничего не ел и почти не спал…
О роли господина Антипова в этом деле Дмитрий не сказал ни слова ни на одном из допросов. По его версии, Мария Веневская, с которой Колычев был знаком с детства, сообщила ему, что ее брат Владимир по паспорту мещанина Василькова, проживает в номерах «Феодосия» за Смоленским рынком, узнав об этом от некоей случайно встреченной знакомой.
Вмешивать в такую грязную историю Павла Мефодьевича было невозможно. Впрочем, версию Дмитрия никто, собственно, и не опровергал…
Мария Веневская, которая, судя по всему, оказалась связанной с боевой организацией эсеров, по описанию очень напоминала террористку, принимавшую личное участие в нескольких громких делах, в том числе в прошлогоднем покушении на московского генерал-губернатора адмирала Дубасова. Жандармам эта женщина была известна под кличкой Долли…
Глава 21
Встретившись с Долли, Борис Савин повез ее в ресторан и согласно своему плану попытался подпоить шампанским, но Долли, хотя и пила много, совершенно не пьянела. Однако, когда он сделал робкую товарищескую попытку пригласить ее в номера, она не отказалась даже и на трезвую голову.
Они провели вместе несколько дней, почти не вылезая из постели.
На четвертый день, проснувшись утром рядом с Долли, Савин спросил:
— Послушай, а может быть, мы могли бы жить вместе?
— В каком смысле? — спросила Долли, пребывавшая в полудреме. Такой вопрос и вправду мог задать только не совсем проснувшийся человек.
— В прямом.
— Ты сам не раз говорил, что революционерам практичнее обходиться без брака. Брак — это кандалы на ногах боевика.
(Борис, собственно, вовсе не имел в виду предлагать ей руку и сердце. Более того, он уже был женат законным браком на дочери одного писателя, популярного в революционных кругах. Но о его жене большинству товарищей ничего не было известно. Главный закон подпольных организаций — каждый подпольщик должен знать как можно меньше о других. Да и жену свою он почти не видел — будучи прогрессивно настроенной женщиной, она понимала, что дело спасения отечества для него гораздо важнее, чем мещанское семейное благополучие. То, что Долли — противница брачного союза, большая удача!).
— Если говорить о допотопных формах так называемого законного брака, сопряженного с церковным венчанием, то, несомненно, да, это кандалы. Но мы с тобой прежде всего товарищи по борьбе, соратники… Нас связывает нечто большее, чем постель.
— Постель нас как раз совершенно не связывает. Это случайный эпизод, и ты сам это понимаешь.
Савин сглотнул обиду — значит, для нее это случайный эпизод. А он привык играть в судьбах женщин иную роль, роковую, демоническую… И, к счастью, он как мужчина кое-что представляет. У него были женщины, даже из идейных боевых товарищей, которые теряли голову от любви к Савину и готовы были валяться у него в ногах, лишь бы не бросал…
Вспомнилась Эрна, ее слезы, мольбы, ее дурацкие бесконечные вопросы: «Милый, ты совсем меня разлюбил? Совсем-совсем?»
А разве он хоть когда-нибудь говорил, что любит ее? Он всего лишь ее хотел и то недолго. И в чем он виноват, что это влечение быстро прошло? А Эрна, дурочка, застрелилась… Вот так — от любви к нему, Борису Савину, взяла револьвер и разнесла себе полчерепа. А ведь это тоже был всего лишь случайный эпизод.
— Я не хочу никакой совместной жизни, Борис, прости, — продолжала Долли. — Сегодня мы вместе, а завтра, может быть, расстанемся навсегда, жизнь разведет — и зачем нам ответственность, обязательства, чувство вины? Зачем сложности, зачем мучить друг друга?
— У тебя тогда в Варшаве было что-нибудь с Опанасом? — спросил вдруг Борис, испытав неизвестно почему укол ревности.
— Что за вопросы? Было — не было, это мое дело! Товарищам и соратникам таких вопросов не задают, если им самим вдруг не придет в голову с тобой поделиться.