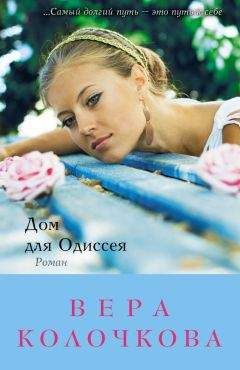Николь Апсон - Эксперт по убийствам
— Не думаю, что все обстоит так просто. Для начала, у нас нет никакой гарантии, что записка — любовная. И, судя по тому, с какой тщательностью все было устроено, я полагаю, речь не идет о простом амурном письмеце — тут кроется глубокий смысл. И уж не говоря обо всех прочих атрибутах, тебе не кажется, что шляпная булавка — очень странный выбор оружия? Не очень-то мужское средство, правда? Прямо сцена из романа Агаты Кристи.
Инспектор знал, что Фоллоуфилд — знаток современных детективов. Он вдруг живо представил себе этого благоразумного сержанта, каждый вечер несущегося из Скотланд-Ярда домой, чтобы там, у камина, проглотить очередной новомодный детектив. Или еще того лучше — сочинить свой собственный. Одна мысль о том, что мисс Дороти Сейерс[3] не кто иная, как дородный усатый полицейский лет пятидесяти, привела его в тихий восторг. «Надо обязательно рассказать об этом Джозефине, когда мы встретимся завтра вечером», — подумал он.
Впрочем, теперь придется увидеть ее раньше, чем они намечали, и встреча эта будет не из приятных. Какой бы ни была причина убийства, но оно каким-то образом связано с пьесой Джозефины, и даже если объяснение тому самое невинное, он не имеет права скрывать от нее случившееся. Да и сама Джозефина не захотела бы, чтобы он это скрывал. Вот если бы можно было смягчить удар, пообещав ей эффектную разгадку этого убийства, вроде той, которая завершила ее первый детективный рассказ… Нет, он ни за что не будет морочить голову этой умной и славной женщине каким-то дешевым трюком. Ведь вряд ли ему повезет так же, как персонажу ее рассказов, инспектору Алану Гранту в первом же его деле. И сам Пенроуз, который являлся прототипом этого инспектора, и Джозефина хорошо знали: раскрытие убийства на деле происходит совсем не так элегантно и выглядит не столь впечатляюще, как в детективах. Что уж говорить про реальную смерть — та заражает все вокруг ужасом, скорбью, хаосом и разрушением таких масштабов, которые не вместит ни один роман.
Пенроуз, к своему смущению, вдруг заметил, что, пока он философствовал, Фоллоуфилд что-то ему объяснял, и из этого объяснения инспектор не слышал ни слова. Но сержант, привычный к тому, что мысли Пенроуза время от времени блуждают невесть где, принялся терпеливо повторять сказанное.
— Так вот, сэр, я насчет той булавки. Девушка-то, оказывается, занималась шляпным делом. Так что ее наверняка проткнули ее же булавкой.
Пенроуз бросил взгляд на валявшуюся на полу рядом с убитой раздавленную шляпу — еще одну жертву насилия.
— Возможно, вы правы.
Инспектор внимательно посмотрел на девушку, пытаясь по чертам лица, которые смерть постепенно обезличивала, понять, какой она была еще несколько часов назад, и определить, что привлекло бы его внимание, пройди он мимо нее по улице. Всякий раз, расследуя убийство, Пенроуз относился к жертве преступления как к личности, заслуживающей понимания и уважения, которых та далеко не всегда удостаивалась при жизни. Как гласит старинное изречение, для убийства есть всего несколько истинных причин, и главные из них — любовь, жадность и месть. Но жертва каждого убийства — человек, со всей присущей только ему индивидуальностью, и потому к каждой смерти следует относиться как к уникальной.
Приблизившись к убитой, инспектор заметил на ее воротничке пятно крови. Пятно это свидетельствовало о порезе на шее, но он оказался таким крохотным, что его трудно было заметить. А еще он обратил внимание на то, что сзади на голове, чуть наклоненной набок и слегка подавшейся вперед, выбрит клок волос; причем сделано это было недавно и небрежно: кожа оказалась поранена, на левом плече лежало несколько прядей волос. «Странная процедура, — подумал Пенроуз. — Такая незначащая и одновременно такая оскорбительная».
В купе было душно и тягостно, и инспектор, выйдя в коридор, вздохнул с облегчением.
— Между прочим, а где ее багаж? — спросил он Фоллоуфилда. — Она его отослала или собиралась взять с собой?
— Я запер его в одной из служебных комнат, сэр. Указаний отослать багаж она никому не отдавала.
— Значит, кто-то должен был ее встретить. Сержант, пойдите и поищите этого человека в толпе на перроне. Кто бы это ни был, он уже, наверное, с ума сходит — если, конечно, ему нечего скрывать. Пошлите ребят на место преступления и велите все сфотографировать — каждую мелкую деталь, особенно этот порез на шее. И нам срочно надо заняться списками пассажиров и обслуживающего персонала поезда; чем быстрее вы раздобудете списки, тем лучше. Я пойду поговорю с Форрестером — может быть, он нам расскажет что-то еще. Кстати, раз уж вы упомянули о Мейбрике, я бы тоже не отказался от чашки чаю. Но если вы найдете того, кто встречал девушку, доложите мне немедленно. Вы уже просмотрели ее багаж?
— Мельком, сэр. Несколько газет и парочка журналов, а этот лежал в боковом кармане вместе с билетом. — Фоллоуфилд протянул инспектору журнал. — Взгляните на четырнадцатую страницу.
Пенроуз открыл указанную страницу. Он увидел подписанный и датированный автограф, и сердце его сжалось.
«Дорогой Элспет с благодарностью за незабываемое путешествие. Надеюсь, что мы еще встретимся! С любовью, Джозефина (Гордон)».
Значит, Джозефина знала Элспет и, возможно, видела ее незадолго до убийства. Пенроуз почувствовал, что ему нужно выпить что-нибудь покрепче чая Мейбрика. Полистав журнал, инспектор обнаружил еще один автограф.
Когда Пенроуз увидел предполагаемого свидетеля преступления, сжимающего в руке чашку уже давно остывшего чая, он понял, что рассчитывать ему особенно не на что. Фоллоуфилд не ошибся: парень оказался до смерти испуган, что было вовсе не удивительно. Большинству людей удается дожить по крайней мере до среднего возраста, прежде чем они осознают быстротечность жизни и, осознав, ужаснутся этому. Правда, поколение Пенроуза было лишено подобной роскоши.
Арчи еще не успел толком разобраться в себе самом, как в мире случилось то, что случилось. Арчи Пенроуз до сих пор помнил ту первую неделю сентября, когда война еще не вступила в полную силу. Через месяц он должен был вернуться в Кембридж, чтобы окончить последний курс медицинского колледжа. В Корнуолле стояла необычная для сентября жара, и Пенроуз наслаждался последними деньками дома. Несмотря на тяготы войны, жители деревушки решили не отменять традиционный праздник урожая, и Арчи вместе со всей семьей отправился в церковь, что стояла на вершине холма, на самом краю поместья его деда, послушать, как его дядя, пастор их церковного прихода, воздает хвалу Господу за невиданный урожай и превосходную погоду, благодаря которой его удалось собрать.
Перед кафедрой проповедника Пенроуз увидел британский флаг и сразу понял, что его дядя, которого он и в лучшие времена считал законченным лицемером, уже успел поставить новую пластинку. Начав с грозной проповеди во славу боевых подвигов, освятив и возвеличив увечье, кровопролитие и убийство от имени высшей власти, пастор призвал молодых людей в этой праведной войне выступить на защиту справедливости — то есть вступить в армию и удовлетворить потребность страны в солдатах.[4] Он, правда, забыл упомянуть, что при этом тысячи из них погибнут, и «Урожайная проповедь» сработала как нельзя лучше: к концу года каждый боеспособный мужчина в деревне записался в армию, а по всей стране ее ряды пополнились почти на миллион новобранцев. Одни из них остались служить в местных гарнизонах; другие, настоящие солдаты, отправились воевать — при этом большинство призывников верило газетам, которые утверждали, что война долго не продлится и завершится к Рождеству. Но все обернулось совсем иначе, и у Пенроуза до сих пор подкатывала к горлу тошнота при одном воспоминании об этом кличе с амвона, призывающем молодых людей послужить во славу Господню за восемь шиллингов и девять пенсов в неделю.
В тяжелые минуты жизни Пенроуз вспоминал о том, что же его удерживало на сыскной службе. Нет, не абстрактное желание установить справедливость и не вера в то, что он способен искоренить зло, заложенное в некоторых людях еще с рождения, а чувство вины перед погибшими, которое не покидало его со времен войны. Иногда это срабатывало, и ощущение бессмысленности человеческого существования постепенно рассеивалось. Но гнев, поселившийся в его душе с той поры, когда он увидел смерть в грандиозном, почти абсолютном масштабе, не проходил никогда и даже, казалось, с годами разгорался только сильнее.
— Расскажите мне, зачем вы вошли в купе мисс Симмонс, — мягко обратился он к парню.
— Ее фамилия, значит, Симмонс?
— Да, а звали ее Элспет. Что же вы делали в том вагоне?
— Я туда зашел, только чтобы убедиться, что там все чисто и готово к следующей поездке.
— Но ведь это не ваша работа, правда же? Вы ведь официант, а не проводник.