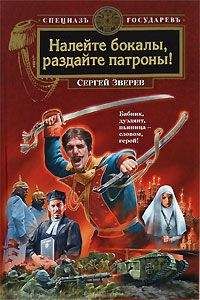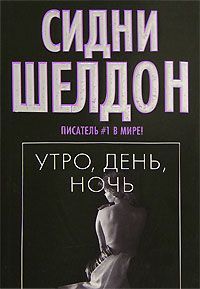Клод Изнер - Полночь в Часовом тупике
Робер Доманси, безмерно гордый придуманным диалогом, хотя он и не знал еще, к какому сюжету его пристроить, поступью победителя вошел в ресторан «У Вебера», излюбленное место отдыха художников и поэтов.
Официант принялся настойчиво предлагать ему welsh rarebit — уэльский пивной суп и к нему гренки с сыром.
— Мсье Каран д’Аш его обожает, — доверительно добавил он.
Робер Доманси заметил человека в кремовом костюме, который сидел возле военного — ему раньше говорили, что это сам генерал Галифе, — и поглощал йоркскую ветчину с румынским салатом.
— Нет, благодарю, я возьму сосиски и картофель, жаренный кружками.
— Если я могу позволить себе совет, молодой человек, закажите лучше холодную говядину, если уж не хотите попробовать английское блюдо с мясной нарезкой, это лучшее произведение местной кухни, — посоветовал из-за соседнего столика какой-то аристократ с изысканными манерами.
— Мсье принц де Саган нам льстит, — заметил официант, низко ему поклонившись.
— Холодная говядина хороша для дельцов! — отозвался с другого столика гуляка, сидящий в окружении Франсуа Коппе, Северина, Орельена Шолля и стайки журналистов из «Фигаро» и «Тан». Только поглядите на этих придурков, которые считают себя куда как элегантными с этими гардениями в бутоньерках!
Потом он потянулся к Роберу Доманси и заговорщицки прошептал:
— Доверьтесь мне, берите антрекот с горчицей на гриле, не пожалеете, молодой человек, это я вам гарантирую.
— С кем имею честь?
— Как, вы не признали мсье Жана Жореса? — поразился официант.
Робер Доманси смущенно кивнул соседу головой и последовал его совету.
Поужинал он прекрасно, потраченные семь франков оправдали себя: после антрекота последовали кофе, бокал коньяку, кусок английского пирога, именуемого «пай», и хватило еще на чаевые официанту. Робер ловил обрывки разговоров, которые, как он считал, могут пригодиться ему в будущем, и в сотый раз перечитывал письмо.
Дорогой месье!
Почту за счастье встретиться с вами в это воскресенье, 29 октября, в Часовом тупике, у подножия холма Монмартр. Я найду вас там — на этом месте в былые времена проходил бал Фоли-Робер. Мне столько нужно вам рассказать! Как хотелось бы повидаться с вами вдали от сцены и осаждающей вас публики!
Заранее ваша,
Л.Он наклонился, вглядываясь в украшенную завитушками на старинный манер букву Л, в изящные строки, старательно выведенные фиолетовыми чернилами. Аккуратный почерк выдавал романтическую натуру, скрывающую свои порывы. Такой бутончик сулил прелести долгой и страстной ночи.
Когда он выходил из ресторана, какой-то тип, закутанный в безразмерное пальто, робко поздоровался с ним. Робер Доманси не удостоил ответом странного, одетого как чучело незнакомца — некоего Марселя Пруста, прозаика, книгу которого, изданную у Кальмана-Леви, критики разнесли в пух и прах.
Без двадцати двенадцать он вылез из фиакра на бульваре Рошшуар и неспешно, с осторожностью двинулся вдоль домов — тупик был совсем небольшой, его слабо освещал единственный фонарь. В садиках соседних домов угадывались силуэты высоких деревьев. Ветхие лачуги теснились между двумя-тремя особняками в османовском стиле. Такое экстравагантное соседство было вполне характерно для изменений, происходящих в городе, который мало-помалу утрачивал свой колорит. Робер Доманси подумал, что в недалеком прошлом здесь болтались гризетки и их кавалеры, кружились в волнах «Вальса роз» в этом зале, который потом какое-то время был фабрикой по производству мячей и помещением для политичеких собраний, а теперь лежал грудой руин в глубине тупика. Ну, по крайней мере, так было написано в путеводителе, который он прочитал. Если бы солнечные часы, которые дали этому тупику название, не исчезли отсюда, а остались бы на своем месте, они были бы свидетелями всех этих метаморфоз.
Робер быстро утомился от таких философских измышлений. Ну что за нелепая мысль посетила голову этой овцы! Место донельзя жуткое, час уж поздний и, как назло, еще начал накрапывать дождь. Робер Доманси поправил шляпу и принялся расхаживать под единственным освещенным окошком на первом этаже трехэтажного дома.
Занавеска была слегка отдернута, в окне появилось лицо и приникло к стеклу. Женщина всматривалась в снующий силуэт в шляпе дыней. Пьянчужка какой-нибудь? Нет, вроде не шатается. Бродяга? Что он замышляет, что за козни строит? Пусть уже уберется отсюда!
Женщина, опираясь на костыль, только собиралась отойти в туалет, как вдруг ее взгляд привлекло какое-то движение среди груды развалин в глубине тупика. Второй силуэт выступил из тьмы. Казалось, слишком широкая одежда затрудняет его движения. В правой руке человек держал тросточку и небрежно вращал ее на ходу. Женщина у окна схватила керосиновую лампу и поднесла ее к стеклу. Человек в шляпе резко обернулся. Другой, быстрый, как змея, молниеносно подскочил к нему, схватил за воротник, взмахнул в воздухе свободной рукой… На конце тросточки сверкнуло лезвие, удар, еще удар, еще и еще, пока жертва не застыла на земле, свернувшись в позе эмбриона. Убийца присел на корточки возле жертвы, потом вскочил и со всех ног убежал в сторону бульвара.
Жилица первого этажа так проворно отпрянула от окна, что чуть не упала. Подвывая от отчаяния и ужаса, она с трудом справилась с тугой неподатливой дверной ручкой и заголосила на лестничной клетке, скликая соседей.
В Часовом тупике блестящая лужа, чернеющая на земле, постепенно стекала с водой в канаву.
Глава вторая
Единственный свидетель преступления был незамедлительно опрошен прямо на дому. Комиссар местного отделения, кругленький чиновник, который, казалось, только что пробудился ото сна, но при этом пытался важничать и явно гордился своим пенсне и небольшой бородкой, явился самолично. Показания свидетельницы он записывал в специальный блокнот, обильно мусоля при этом карандаш.
— Подытожим: Од Самбатель, 1852 года рождения, отец плотник, мать работница на спичечной фабрике…
— Мама померла от чахотки, когда мне еще пяти лет не было. «Много серы в организме», так сказал доктор. Отцу посчастливилось вторым браком жениться на вдове, у которой был магазин зонтиков на бульваре Рошшуар. Хотя она была, как говорится, бальзаковского возраста, 37 ей было, вроде как пора увядания, но она тем не менее была хороша собой и умела нарядиться, одежду подбирала ту, что к лицу. А уж притом, что с финансами у нее все было благополучно, так вообще невеста на выданье. Отцу тогда пятьдесят стукнуло, он взвесил все «за» и «против», ну, ей он тоже глянулся — статный, что называется, сильный мужчина — и так она стала моей мачехой. Ну, начались золотые времена. Предприятие жены приносило доход, отец превратился в рантье. Был тощим, стал толстым. Был живчик, стал вялым и ленивым. Коммерция-то вызывала у него отвращение, так что он тратил время и здоровье, коротая дни за выпивкой.
Комиссар вздохнул и перестал чирикать в своем блокноте.
— Мадам, я…
Но никто и ничто не могло остановить поток словесных излияний хромоножки. Комиссар обессиленно прикрыл веки, невероятная усталость обрушилась на него, Од Самбатель все тараторила, трещала без умолку, он кивал, не в силах уловить главную мысль: покинутые отцом и мужем, торговка зонтиками и маленькая Од сидели по своим комнатам и предавались бесплодным мечтам. Берта Самбатель зачитывалась рыцарскими романами о любви и воображала себя лихой героиней на белом коне.
Веки комиссара отяжелели, глаза сами собой начали закрываться. Ему почему-то привиделась леди Годива, обнаженная и прикрытая лишь своими прекрасными волосами, которая скачет галопом под улюлюканье каких-то темных личностей. Он тряхнул головой, пытаясь прогнать охватившую его дремоту. Предпринял мощное усилие, чтобы собраться и не наделать роковых ошибок. Но в глубине души ему вовсе не хотелось концентрироваться, а хотелось только спать, спать…
— Когда мне исполнилось восемнадцать лет, три события полностью перевернули мою жизнь: как-то вечером во время очередной выпивки папаша не устоял на ногах, споткнулся о помойку, попытался ухватиться за тележку зеленщика, но он был таким тяжелым, что тележка перевернулась и кочаны капусты выкатились на мостовую, а встречный фиакр вильнул и задавил его. Вскоре после похорон моя мачеха Берта, записывая в приходно-расходную книгу проданный зонтик, схватилась за грудь и бездыханная застыла в кресле. Возвращаясь с погребения, я сняла вуалетку перед зеркалом, висящим в будуаре, и вгляделась в свое лицо, которое до сих пор меня как-то мало интересовало, так, словно увидела его впервые. И тогда поняла, что я уродлива.
Где-то на этаже заплакал ребенок. Комиссар очнулся. Похоже, он попал в ловушку. Он кашлянул, пытаясь привлечь внимание к своей персоне и прервать неудержимый шквал красноречия Од Самбатель. Его собеседница при этом скорее напоминала бледную тень человека, чем живое существо.