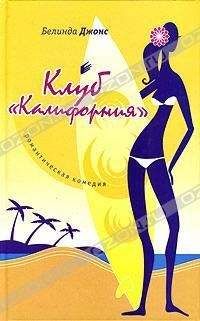Калифорния на Амуре - "Анонимус"
Напуганные китайцы немедленно выразили полную готовность бежать с насиженного места, но тут выяснилась одна деталь. Манегры соглашались пропустить старателей только при одном условии – с каждого китайца должна быть выплачена дань в четыре унции [25] золота. Оказалось, что такой запас есть далеко не у всех – некоторые еще не наработали столько, другие уже успели поменять золото на деньги. И вот теперь те, у кого золота не было, бросились к Юй Лучаню, чтобы тот продал им нужное количество.
– По какой же цене ты им его продаешь? – внезапно заинтересовался помощник Загорского. – По той же, по какой и покупал?
Лицо у менялы сделалось оскорбленным: кто же продает по той же цене, что и покупает – ведь так и разориться можно!
– Значит, решил нажиться на чужом горе… – вид у Ганцзалина сделался недобрым, но надворный советник его прервал.
– Нам некогда восстанавливать социальную справедливость, – сказал он помощнику и перевел глаза на менялу. – Итак, ты продаешь приискателям золото, они отдают его манеграм и…
– И они нас выпускают, – заискивающе закончил Юй Лучань.
– Выпускают, значит, – повторил надворный советник, однако лицо его почему-то сделалось мрачным. – Дай-то Бог. А много ли явилось сюда манегров?
Меняла отвечал, что всадников – пятьсот человек, и все хорошо вооружены.
Загорский помрачнел еще больше и сказал, что против такой массы солдат китайцам, разумеется, выступать не с руки. Если нет другого выхода, то, конечно, надо отдавать все, что есть, потому что жизнь дороже. Однако он на месте китайских приискателей всё-таки посоветовался бы сначала с русским руководством Желтуги.
– Одна голова – хорошо, а две – много, – заметил Ганцзалин, по привычке коверкая пословицу.
Загорский отвечал, что в данном случае речь идет не так о головах, как о людях, которые, объединившись, могут дать врагу отпор. Однако меняла замахал руками и сказал, что у них все уже оговорено с манеграми, а китайцы – такие хитрые переговорщики, которых никто и никогда не сможет обмануть. Если манегры не выполнят договор, на них падет гнев всемилостивого Будды и князя ада Янь-вана – этого вполне достаточно, чтобы усмирить любых клятвопреступников.
Нестор Васильевич снова повторил свой совет – прежде обратиться к Прокунину или Фассе, а уж потом иметь дело с манеграми, но, видя, что Юй Лучань его не слушает, махнул рукой и сменил тему.
– Не знаешь ли ты, – спросил он напоследок, – куда мог отправиться ваш староста Ван Юнь?
Меняла полагал, что староста отправился скорее уж на север, поближе к русским, чем на юг. Все дело в том, что правительство Поднебесной было крайне недовольно строптивостью китайских старателей, которые добывали золото в Желтуге и не раз угрожало им самыми страшными карами. Но если простой приискатель был лицом анонимным, то такая видная персона как китайский староста наверняка была у властей на особом счету. Именно поэтому Ван Юнь скорее уж переберется на русский берег Амура и спрячется там, чем будет ждать, пока его отловят и предадут свирепой казни китайские войска.
Загорский кивнул и поднялся со стула.
– Прощай, – сказал он Юй Лучаню, – удачи вам всем!
И направился к выходу. Ганцзалин молча последовал за ним. Меняла изумленно смотрел им вслед. Выходит, господин не собирается карать несчастного Юй Лучаня?
– Как-нибудь в другой раз, – невесело пошутил надворный советник, и они с помощником вышли вон.
Буська бешено крутилась во дворе, глухо рыча на обступивших ее китайских старателей. Физиономии у них были такие плотоядные, что даже Загорскому сделалось не по себе. Ганцзалин несколькими крепкими затрещинами разогнал соплеменников. После этого они в сопровождении верной Буськи двинулись к зимовью Курдюкова и очень скоро добрались до него.
– Прежде, чем отправляться к Фассе, надо бы немного передохнуть и взять оружие, – сказал Ганцзалину Загорский, который все еще не набрал полной силы и теперь слегка задыхался после тяжелой дороги.
Старичок, по счастью, оказался дома и был совершенно ошарашен видом своих же собственных постояльцев.
– Во как! – сказал он, подозрительно переводя глазки с Ганцзалина на Загорского и обратно. – Вон оно как! Не было ни гроша, да вдруг алтын. Где ж вы были, отцы родные, столько времени? Мы уж вас схоронить успели.
– Кто это – мы? – с подозрением спросил Ганцзалин.
– Да мы же, мы – опчество, – отвечал старичок. – Вся, можно сказать, Желтуга со всеми великия, и малыя, и белыя…
– Что – и Прокунин схоронил? – поинтересовался Загорский, окидывая взглядом знакомое жилище Курдюкова и не находя в нем никаких следов их с помощником вещей. – Даже не поинтересовался, куда пропали? А ведь я велел тебе, если не вернусь до вечера, сказать обо всем старосте. Велел или нет?
Глазки старика забегали еще быстрее.
– Велели, а к как же, – заговорил он с некоторой натугой, как будто мучился запором. – Велеть-то велели, а я все и забыл. Память-то у старичка дырявая, в одно ухо вошло – из другого вышло. Старость-то, она ведь не радость. Как говорится, волос бел, а ум темен. Да и, правду сказать, не до вас тут было. У Прокунина столько дел, что прямо невпроворот.
– Хорошо, а вещи наши где? – не слишком вежливо перебил его надворный советник.
Еремей в изумлении развел руками: какие-такие вещи, никаких вещей он не знает…
– Где вещи, старый пес?! – китаец грозно шагнул к старику, тот в ужасе попятился, редкие седые волосы его топорщились вокруг лысины, словно нимб у древних святых. – Давай сюда вещи, или дырку в тебе сделаю. Прямо в черепе – не заклеишь.
– Ганцзалин, перестань, – устало сказал Нестор Васильевич, присаживаясь на табурет, – ведешь себя, словно головорез. Нельзя начинать разговор с угроз, прежде всего – вежливость и ласка. А уж если не подействует, тогда и про дырку можно поговорить.
Ганцзалин насупился, но увещеваниям господина все-таки внял. Он взял старика за грудки, слегка встряхнул и сказал неприятным голосом:
– Я тебя, сукин ты сын, спрашиваю вежливо и ласково: где наши вещи?
Курдюков покосился на Загорского, но поняв, что с этой стороны спасения ждать не приходится, отвечал елейно, что, дескать, все их уже похоронили, может, тигр их съел, может другой какой зверь. А покойнику вещи зачем – покойнику они без надобности. Вот он и раздал вещи людям, чтобы вспоминали постояльцев его добрым словом. Они ведь, не к столу будь сказано, так ни копеечки ему и не заплатили. А он уже бригаду набрал, уже мало что шурф не начал копать. Кто же знал, что они помрут безвременно? Покойнику ведь не о вещичках думать надо, а лежать себе тихо в земельке, да истлевать понемногу…
– Сейчас ты у меня истлеешь, да не понемногу, а сразу! – рявкнул помощник, но снова был остановлен Загорским.
– Ты вот что, старинушка, ответь на один вопрос, – начал он деловито. – В вещах у нас был револьвер Ганцзалина. Вещь хорошая, дорогая. Не верю, что ты его отдал или, точнее сказать, продал кому-то. Наверняка дома припрятал, ведь так?
Старичок забормотал что-то неразборчивое, но, встретившись с огненным взором Ганцзалина, осекся и признал, что револьвер и документы жильцов запрятаны у него в надежном месте. После чего, повинуясь все тому же взгляду Ганцзалина, вытащил из сундука да вида на жительство и завернутый в серую шерстяную тряпицу «смит-вессон», и с легким расшаркиваньем протянул надворному советнику.
– Вот, сударь, пользуйтесь, а на старичка попусту не клепите, обидно старичку такое отношение.
– Старичку обидно будет, когда его живьем в землю закопают… – начал было Ганцзалин, но его снова остановил Загорский, который заметил, что совместное житье его помощника с хунхузами повлияло на того самым неблагоприятным образом. Впрочем, это неважно. Нынче же они с Ганцзалином отправляются по делам в управление приисками. Что касается Курдюкова, то он пойдет по добрым людям, которым, по его словам, отдал он чужие вещи, и истребует их назад. Все эти вещи должны вернуться к ним до вечера, в противном случае он, Загорский умывает все и всяческие руки и дальше с Курдюковым разговаривать будет его помощник, а человек он, как уже убедился Еремей, грубый и взыскательный. Злить Ганцзалина он бы никому не посоветовал, тем более, если жизнь ему дорога.