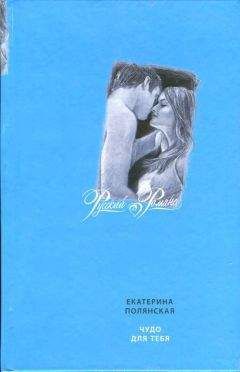Чудо, тайна и авторитет - Звонцова Екатерина
К. ни за что не догадался бы, какая женщина может располагать столь обаятельно-роскошным уголком; казалось, ни одна из знакомых, скорее Мария-Антуанетта в лучшие годы. Но броская деталь подсказала — вертикальная картина на свободной от зеркал стене. Мужчина и женщина лежали в тени кипариса, сплетясь в объятиях, но не чувственных, а неизъяснимо печальных: мужчина прятал лицо у женщины на груди; она целовала его волосы, скорбно хмурясь. Склоненные ветви молодого дерева были то ли искуснейше вылеплены из глины, то ли сорваны с настоящего кипариса и подкрашены. К. не помнил эту работу Андрея, но узнавал и технику, и сюжет. Аполлон и Артемида, знаменитейшие мифические близнецы, скорбят по другу-царевичу, и в них, конечно же, ничего каноничного не было, кроме туник и плащей. Смуглые, темноволосые, они легко узнавались даже с совершенными скульптурными телами: в богоподобном облике D. запечатлел молодых графа и графиню; кипарис олицетворял их вдовство.
К. перевел глаза на призрака, молча стоявшего рядом, — и в ту же секунду настоящая графиня показалась из-за двери. Шла она нетвердо, темное платье волочилось по полу, голова была опущена, а губы — искусаны, не в кровь, но до жгучей неестественной яркости. Графиня прошла призрака насквозь, ничего не заметив, — и рухнула на стул. Она или очень устала, или была смертельно пьяна, или и то и другое разом.
К. глянул поверх нее в зеркало и, конечно, не увидел ни себя, ни спутника. Только печальное женское лицо светлело в золотистом полумраке, в мерцании пары приглушенных ночников. Графиня равнодушно посмотрела на отражение, вздохнула, потянулась к какому-то флакону — то ли освежить кожу, то ли, наоборот, смыть тусклые румяна — и замерла. С губ сорвался не вскрик, но измученный стон; глаза не расширились, но померкли и увлажнились. Она будто поранилась, укололась.
— Снова?.. — прошелестели губы. — Нет, нет…
На столе, подле узкого пузырька в жемчужном окладе, лежали окровавленные платки. Первый был измазан весь, второй — чуть-чуть, но оба К. легко узнал, потому что видел совсем недавно — во временнóм отрезке, вверенном чиновнику с цепями на запястьях, а ныне, похоже, безвозвратно отошедшем старику в алом. Нежный батист, легкая кружевная оторочка и красноречивые монограммы. «А. D.». Lize ли ослушалась отца и решила наябедничать тетке так нехитро? Или сам граф, разрываясь надвое, выбрал такой инфантильно-подлый способ «форсирования»? Графиня взяла платки дрожащими руками, поднесла к самым глазам, тут же скомкала, прижала к груди… через несколько секунд она плакала, низко опустив голову, скуля и бормоча: «Андрюша, Андрюша…» Плечи дрожали, чудеснейшая прическа, украшенная, как и у Lize, живыми цветами — скромными фиалками, — рассыпалась на глазах, точно невидимая рука по одному вынимала локоны и бросала на сгорбленную спину, на скрюченную шею, на смуглый лоб. Слезы капали на окровавленную ткань, на тумбу, на колени. Поразительно, но в этом горе, горе матери, промучившейся с сыном не год и не два, графиня казалась удивительно юной, совсем как печальная та Артемида, что трепетно обнимала на картине своего близнеца.
— Я знал… — с горечью прошептал К. Подошел вплотную, тронул трясущееся плечо прежней благодетельницы, догадываясь, что пальцы пройдут насквозь. — Знал, что вы меня обманули! — Он обернулся. — Мы все же пришли терзать мне душу?!
Дух покачал головой. Он не приближался, маячил на месте, где возник, руки его сложены были лодочкой перед грудью — и только сейчас К. заметил выглядывающий из этой лодочки огонек. Он плясал и подпрыгивал, словно осматриваясь, хотя глаз у него, благо, не было. Это одновременно и пугало, и злило: ясно было, что огонек здесь не нужнее домашнего питомца, которого по туманным причинам не пожелали оставлять без присмотра. К., чтобы не сказать лишнего, отвернулся. «Лучше бы ты утешил ее, ты же умеешь, и неважно, что она еще не плачет, что этого не произошло, ведь я это вижу…» — просилось с языка, который стоило поскорее прикусить. Впрочем, К. не успел по-настоящему растеряться или вскипеть. Когда он опять повернулся к зеркалу, графиня уже овладела собой. Она отложила платки на край трюмо, выдвинула широкие ящики с резными ручками… вскоре на столешнице оказался лист дорогой бумаги; за ним — чернильница и печатка; наконец — тоненькое стальное перо, сверху украшенное другим — декоративным, павлиньим. Перо это запрыгало в неверных пальцах. Но над пустым листом графиня не просидела и десяти секунд.
Она выводила слова быстро, грязно, то и дело теряя наклон букв. Не сравнить с записками и приглашениями, что К. от нее получал; не чета даже пометкам и ремаркам, коими пестрели поля недописанного романа Lize. Хотя в теплом воздухе будуара не витало запаха спиртного, сомнений не оставалось: графиня довольно пьяна — то ли сама залила грусть и тревогу игристым, то ли ее подначил верный Аполлон, сказав что-нибудь вроде «Совсем ты, Софочка милая, не веселишься». К. склонился, всмотрелся в бумагу пристальнее — после первого беглого взгляда не поверил глазам — и, не сдержавшись, выругался. Дух так и не подошел, похоже наперед зная, что увидит.
Графиня все писала — путано, избыточно, с переливающимся сквозь неровные строчки отчаянием. Капала на послание слезами, едва ли замечая это. Слова плыли, но ни одно от этого не теряло своего тяжелого, смятенного смысла.
Любезный наш друг Виктор Романович!
Жалею, что тревожу Вас в Святки, напрочь не думая о Вашем покое и отдыхе, но поскольку Вы дозволяли писать Вам в любое время, я не могу откладывать, иначе не решусь: Вам самому известно мое слабоволие. Душа устала, сердце болит, и я беспросветно отягощена тем, что по-прежнему считаю большой материнской подлостью, но без подлости, боюсь, не обойтись, если она — во благо.
Бедный наш Андрей вновь сделал это — изрезал себя, да еще, похоже, напоминая мне о своих душевных страданиях, бросил окровавленные платки на моем столе. Он точно воскликнул: «Это ты виновна, ты не уберегла меня, ты!», ведь так? И он прав… Один вид этих платков все сжимает внутри; хочется самой вспороть себе что-нибудь, если есть в нашем организме место, где гнездится печаль. И это в Сочельник, в святую ночь, а ведь до весны еще далеко! Если он так сделал сейчас, что будет весной?
Я не знаю, что овладело им, но даже не могу спросить: с ним, видимо, очередное его полное помутнение, толкающее к бегству; бал он покинул почти сразу после боя часов; карету не взял; никому не дал за собой увязаться… пообещал вернуться ко времени, как все начнут расходиться. Бедный мой мальчик, уверена, это все шум, гвалт, излишние попытки наших гостей с ним пообщаться и страх: вдруг каким-то образом придет тот человек, коего мы с вами обсуждали… Мы его, конечно же, не позвали, если Вам это будет важно. Тем тревожнее приступ, эта кровь… Сейчас же не весна, не весна, не весна, ненавижу весну…
Прямо сейчас, в тишине, наедине с этими платками, я понимаю, что более не могу, а мой брат и Ваш друг Кирилл Яковлевич прав, да и Вы правы. Жизнь наша с Андреем все более сродни жизни с диким неуемным пламенем, с одной разницей: пламя это обожжет скорее себя же, чем нас, ведь, сколько его ни терзал недуг, ни разу он никому не сделал дурного, мой добрый мальчик. Я хочу, чтобы так было и дальше. Я боюсь, что однажды он потеряет эту последнюю крупицу грань своего душевного здоровья, что сорвется и кинется, например, на того человека, будь он проклят; однажды он уже изрезал его портрет или нечто вроде того; Вы помните… Сегодня ведь Рождество… Ах, я уже писала об этом, да и Вы без меня знаете; простите, мысли у меня путаются, и как бы Вы не решились похлопотать насчет места и для меня… но нет. Пока нет.
Я хотела бы знать, в силе ли Ваше предложение свести нас с тем именитым русскоговорящим профессором из Вены — С., верно? — и всячески содействовать помещению моего мальчика в его клинику? Андрей расположен к Вам; Вы интересны ему как личность, как Вы уже могли заметить; ему близки Ваши гуманные взгляды на лечение душевных болезней. Возможно, заехав к нам в праздники, Вы сможете убедить его в нужности шага; скажете, что Ваш друг тоже против горячечных рубашек; что труд и покой — основные его методы (ведь так?)? Знаю, Андрей дурно к этому настроен; знаю, он вовсе не желает вписывать себя в ряды больных и не признает того, что душа его надломлена; знаю, он мнит, будто, чтобы излечиться, ему достаточно живописи и умеренности в сближении с людьми; он хочет еще и учебу, да еще и Вы знаете, по какой стезе, это так дико (не сочтите за снобизм, речь об иной дикости)… но он не понимает опасностей, знаю, не понимает. Столько опасностей… даже если он никогда не шагнет дальше и не тронет других, что, если однажды он порежет себя смертельно? Мне страшно, так страшно, брат же мой все более настораживается, опасается. Я вижу, опасается. У него, конечно, есть свои некоторые поводы; к Lize вот, как Вы знаете, никак не посватается никто достойный; ей, возможно, вредит и слух о недуге брата; не все молодые ведь знают, что общей крови у них нет… вдобавок Кирилл Яковлевич уверяет, что многое пойдет на лад, если удалить Андрея от проклятого этого человека, нет, змеи в человеческом обличии, что ныне вхожа в каждый дом и от которой невозможно, как мне кажется, укрыться. Я так часто вижу его; вижу, что он на нас смотрит; вижу — и разве что сама не хватаюсь за ножи, так ненавижу его и тот блеск, коим ныне он окружен.
Заканчиваю… простите, заканчиваю, иначе Вы точно пожелаете и мне найти теплое место в четырех стенах. Напоследок скажу лишь, что лучше не откладывать. В апреле Андрею исполнится двадцать один [21], после чего желания его станут безоговорочным законом, неподконтрольным родительской воле. Ныне же, даже если он будет дурно настроен к лечению и далее, мы сумеем…