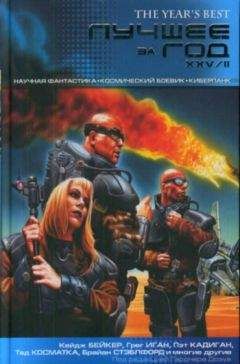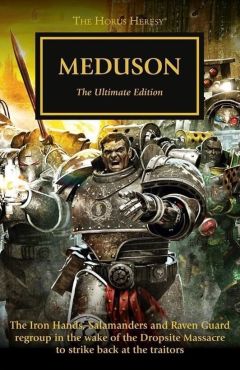Сюзанна Ринделл - Другая машинистка
В тот день, распрощавшись, получив указание выйти с понедельника, она прошлась по участку девчачьей легкой походкой, отворила дверь, шагнула за порог – и тут что-то оторвалось от лацкана ее голубого жакета и со звоном покатилось по полу. Мой взгляд метнулся к той плитке, где в свете голых электрических лампочек поблескивала упавшая вещица. Я знала, что следует окликнуть Одалию и вернуть ей это, но я промолчала, и Одалия так и вышла за дверь, вроде бы ничего не заметив. Дверь захлопнулась, а я еще несколько минут просидела неподвижно, точно оцепенев. Наконец любопытство принудило меня действовать. Я тихонько поднялась и подошла к лежавшему на полу предмету.
Это оказалась брошь – весьма дорогая с виду, узор из опалов, бриллиантов и черных ониксов, и форма наисовременнейшая – звезда с расходящимися лучами. Что-то было в этом украшении от самой Одалии, как будто безделушка в миниатюре воспроизводила свою хозяйку. Одним быстрым движением я подхватила ее и вернулась к столу, крепко стиснув в руке свою находку, острые лучи впивались в ладонь. Я сидела, держала прекрасное украшение под столом, на коленях, и тайком любовалась, как загипнотизированная. Даже в сумраке брошь мягко мерцала. Наконец, меня окликнули и поручили очередную перепечатку. Пришлось стряхнуть с себя колдовское наваждение. Я выдвинула ящик стола, засунула брошь как можно глубже, за стопку бумаг, сказала себе, что верну ее Одалии, как только та явится в понедельник на работу, но где-то в глубине души, кишками чуяла: это ложь.
До конца дня я так и жила с этим странным чувством: меня все время что-то отвлекало, будто на периферии зрения мелькала точка, на которую я не решалась поглядеть в упор. И уже тогда я заподозрила, что Одалия уронила брошь нарочно, испытывая меня. Задним-то числом я отчетливо различаю характерную для нее уловку, словно улику, почерк преступника: Одалия заманила меня в ловушку, в равных пропорциях смешав соблазн и стыд. С тех пор я была неразрывно с ней связана и все собиралась, но никак не осмеливалась спросить, знает ли она, что я тайно присвоила себе чужое. И все это – когда мы еще не были официально знакомы и не обмолвились ни словом.
2
Не стану обманывать и намекать, будто уже на этой ранней стадии я вполне осознавала то влияние, какое Одалии предстояло оказать на мою жизнь и на участок в целом. Я уже говорила, что заметила нечто, едва Одалия переступила порог, и это правда, однако вряд ли я смогла бы объяснить, в чем дело, или предсказать, в какой мере это отразится на мне лично. После первой встречи мысль об Одалии вызывала лишь слегка неприятное ощущение в желудке и ничего более серьезного или конкретного. До конца недели я несколько раз выдвигала ящик стола, украдкой бросала взгляд на брошку и думала об Одалии, но служебные обязанности не оставляли времени для размышлений. Вероятно, брошек у нее много, уговаривала я себя. Она, должно быть, и не заметила убыли в своей коллекции. Ее это особо и не огорчает, рассуждала я. Мне представлялось, как я небрежно возвращаю ей украшение, – и представлялось, как я столь же небрежно забываю его вернуть. Что в первом сценарии, что во втором – совершенно бестрепетно. Дескать, мне на брошку наплевать, нисколько она меня не интересует. В этом была великая свобода: вообразить себя такой равнодушной, чуть ли не пресыщенной, мне и дела нет до экзотической птахи с ее редкостными сокровищами. А потом наступили выходные, когда мне даже в мыслях не виделись ни брошь, ни Одалия.
В ту пору я, как большинство незамужних девиц моего возраста и экономического положения, жила в пансионе. Хозяйкой пансиона была молодая вдова по имени Дороти (она предпочитала, чтобы ее называли Дотти), с прилизанными волосами цвета воды из-под грязной посуды и четырьмя малышами. Тяготы деторождения и тоска домоводства преждевременно ее состарили, лицо покраснело и пошло пятнами, словно обветрилось, кожа под глазами обвисла, и наметился второй подбородок. Но едва ли ей минуло тридцать. По правде говоря, подозреваю, что было ей лет двадцать восемь или двадцать девять, не больше. Разумеется, в наше время столь молодые вдовы не диковина. Обыкновенная история: муж Дотти пропал на той недоброй памяти войне, которая поглотила так много молодых людей нашего поколения и даже косточек не выплюнула. Если бы не дети, которым она поминутно требуется, она бы, говорила Дотти, поехала на поля прежних сражений, что еще не зарубцевались вдоль границы Франции и Германии, посмотрела на место мужниного упокоения, – то место, говорила она, где Дэнни, несомненно, задохся от горчичного газа.
Дэнни и Дотти; их имена были так уютно созвучны, так дополняли друг друга – тем горестнее утрата Дотти и ее печаль. Лишний раз глотнув напитка из кухонного шкафчика (она именовала его кулинарным хересом, и запас таинственным образом пополнялся вопреки сухому закону), Дотти порой пересказывала мне сцену гибели Дэнни так, будто наблюдала ее воочию. Она была свято уверена, что труп его свалился в окоп и лежит там, кое-как присыпанный, затерянный среди сотен длинных вздувшихся насыпей, которые, по слухам, до сих пор извилистыми шрамами бороздят французские поля. Младшему ребенку Дотти было три с половиной года; не уверена, что расчет подтвердил бы отцовство Дэнни, однако Дотти я на это никогда не намекала: дань с постояльцев она взимала умеренную, и я вовсе не желала недоразумений. К тому же мне доводилось неоднократно слышать, будто одиночество в военную пору – особый род одиночества, ненасытнее прочих.
Я и сама кое-что понимала в одиночестве, хотя никогда не бывала одна, в пансионе это невозможно. Пансион располагался в буром кирпичном особняке из песчаника, типичном для Бруклина и довольно обветшалом. Жалкое состояние дома я объясняла тем, что, будучи вдовой, Дотти не имела под рукой мужа, который мог бы производить повседневные мелкие починки, а ее ограниченный доход не позволял нанять рабочих даже для самого неотложного ремонта. Одной семье этот дом был бы, пожалуй, великоват, но не восьми взрослым и четырем детям, которые теснились там в мою бытность. Само собой, беготни и шума хватало.
И даже моя комната не обеспечивала мне той укромности, на какую вроде бы я имела право рассчитывать. Помещение было просторное, но его разделили пополам, развесив на бельевой веревке несколько серых, в скверных пятнах, простыней. «Полуприватной», если не ошибаюсь, именовала эту комнату Дотти в газетном объявлении. Вряд ли она пыталась кого-то обмануть, в общем-то, описание было довольно точным, к тому же брала она за проживание меньше, чем в иных пансионах, но, с другой стороны, этот взнос удваивался, когда в комнате поселялись двое, и превышал ту сумму, которую Дотти получила бы, сдай она комнату целиком одному жильцу. Пожалуй, выгодность или невыгодность любой сделки определяется точкой зрения, и ничем иным.
Соседка была моей сверстницей – девушка с каштановыми волосами, щекастая, с ямочками под коленками. Звали ее Хелен, и это имя, боюсь, вскружило девице голову: судя по поведению, порой она путала себя с Еленой Троянской. Наверное, нехорошо так говорить. И все же я повидала немало кокеток, но мало кто так красовался, как эта Хелен: вечно крутилась перед зеркалом – и так голову повернет, и эдак, изображая на лице то радость, то восторг. При ее мясистой физиономии выглядело это, словно тесто месят, придавая ему форму пончика или слойки, и гримасничала она не слишком-то убедительно. Сама Хелен ничего такого не говорила, но я подозреваю, что она питала честолюбивую мечту выступать в театре. В ту пору, когда мы жили бок о бок, она работала продавщицей и считала это занятие куда более достойным, чем работа машинистки в полицейском участке. Вот из этого она тайны не делала и частенько норовила меня подбодрить, хоть я и не давала повода.
– Не горюй, Роуз, не вечно же тебе работать в этой дыре. Непременно подвернется что-нибудь получше. Избавишься от мужских костюмов, я помогу тебе подобрать милые вещички, со вкусом. – «Со вкусом» было ее любимое выражение, однако я быстро поняла, что ее вкус существенно отличался от моего.
Когда я въехала в пансион, Хелен уже там жила и, соответственно, занимала лучшую половину комнаты – ту, что подальше от двери. Мне не было надобности проходить через ее полукомнату, и ее укромность не нарушалась, зато телеология понуждала Хелен на пути в спальню или из спальни проходить через мою половину, и она не стеснялась при этом шуметь и частенько оставляла с моей стороны свою обувь и чулки. Я также подозреваю, что она заранее переставила мебель, чтобы все ценные предметы оказались на ее половине. Впрочем, такова человеческая натура. Кто поручится, что я не поступила бы так же, если бы поселилась в пансионе первой?
Так или иначе, всю неделю Хелен изрядно суетилась в ожидании джентльмена, которого собиралась принять у себя в пятницу вечером, а потому, едва я переступила порог, мои размышления о работе и Одалии были прерваны кривляниями Хелен. Разумеется, по пути домой я понятия не имела, сколь заметную роль мне предстоит сыграть на ее свидании. Это запоздалое открытие поджидало меня, словно медвежий капкан, – он захлопнулся, как только я добралась до пансиона.