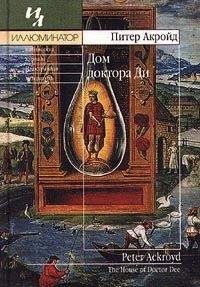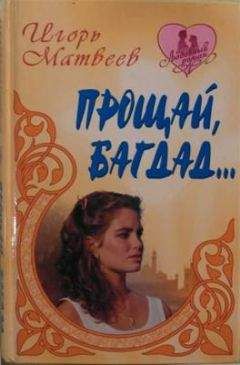Питер Акройд - Процесс Элизабет Кри
Через два дня состоялись нищенские похороны, и в тот же вечер Элизабет опять пришла в театр на Крейвен-стрит, где услышала, как Дэн Лино поет одну из тех песенок, что принесли ему славу «самого смешного человека на свете»:
Любовь у каменщика Джима
Не холодна, не горяча.
В меня, когда иду я мимо,
Швыряет он полкирпича.
Глава 6
Дэна Лино часто называли самым смешным человеком того времени, да и всех времен; однако, может быть, точнее всех о нем отозвался Макс Бирбом в «Сатердей ревью»:
«Берусь утверждать, что всякому, кто видел Дэна Лино, он полюбился с первого взгляда. Вот он выскакивает на сцену с обычной своей отчаянной решимостью, всем перекрученным телом и каждым жестом неудержимо изливая некую горькую обиду, — и уже миг спустя все сердца принадлежат ему… этому несчастному, забитому человечку, облапошенному, но задиристому, с таким писклявым голоском и такими размашистыми движениями, гнутому, но не сломленному, хилому, но настырному, воплощающему в себе волю к жизни в мире, не стоящем того, чтобы в нем жить…»
Он родился в доме номер четыре по Ив-корт поблизости от старой церкви Св. Панкратия до того, как Центральная железнодорожная компания возвела на этом месте вокзал; странным образом он появился на свет в тот же день, что и Элизабет Кри, — двадцатого декабря 1850 года.[2] Его родители были «люди театра» — они концертировали в различных мюзик-холлах и варьете как «мистер и миссис Джонни Уайлд, певческий и актерский дуэт» (Дэна Лино в действительности звали Джордж Гэлвин, но он очень скоро отказался от этого имени; точно так же Элизабет Кри никогда не выступала под фамилией матери). Их сын впервые вышел на подмостки четырех лет от роду в паддингтонском мюзик-холле «Космотека», и первый сценический наряд мать ему сшила из старого шелкового каретного тента. На этой ранней стадии своей карьеры он был означен в афишах как «трюкач, штукарь и дока по части перевоплощения», и действительно, он очень чисто исполнял ряд номеров, особенно тот, в котором изображал штопор, открывающий винную бутылку. В восемь лет он сделался в афишах «великим малышом Лино» (всю жизнь он оставался очень малорослым человеком), а через год уже славился как «великий малыш Лино, квинтэссенция комизма кокни» или же как «мастер разговорного жанра, воплотитель лондонских характеров». К осени 1864 года, когда Элизабет впервые его увидела, он уже выработал тот неповторимый юмор, который сделал его знаменитым. И как же вышло, что спустя менее чем двадцать лет полицейские из Лаймхаусского отделения заподозрили его в том, что он и есть Голем-убийца из Лаймхауса?
Глава 7
Ниже приводятся отрывки из дневника мистера Джона Кри, проживавшего в Нью-кросс-виллас, что в южном Лондоне; дневник ныне хранится в отделении рукописей Британского музея с шифром Add. Ms. 1624 /566.
6 сентября 1880 года.
Утро сегодня было прекрасное, солнечное, и я почувствовал, что убийство стучится в дверь. Мне необходимо было затушить этот огонь, и я взял кеб до Олдгейта, а оттуда пошел пешком в сторону Уайтчепела. Могу смело сказать, что я действительно жаждал боевого крещения, и мне пришло в голову начать сразу с новинки: испить последний вздох умирающего ребенка и проверить, вольется ли его юная душа в мою душу. О, в этом случае я жил бы вечно! Но отчего непременно ребенок, когда сгодится любая душа? Вот и опять я дрожу всем телом.
Я думал, что в районе Гэммон-сквер будет более людно, но обитатели этих убогих меблирашек готовы дрыхнуть хоть целый день, заглушая голод. В прежние годы они были бы на улице уже на рассвете, но в наше время устои рушатся повсеместно: до чего, спрашивается, мы докатились, если трудящиеся массы больше не считают нужным трудиться? Я свернул на Хэнбери-стрит, и вот она, эта вонь. Воздух насыщен отвратительным духом пирожковых лавок, где столь же обильно, как всегда, идет в дело кошачье и собачье мясо, где нет прохода от торговцев-евреев с их неизменным «Постойте, не убегайте» и «Как ваше самочувствие в такой чудный денек?». Впрочем, еврейскую вонь я еще могу терпеть, но вот запах ирландца, густой и тяжелый, как запах испорченного сыра, совершенно невыносим. Два таких субчика лежали мертвецки пьяные у кабака, и мне пришлось пересечь улицу, чтобы не задохнуться. Там я зашел в ветхую кондитерскую и на пенни купил лакричных леденцов, чтобы вычернить себе язык. Кто знает, где он еще окажется сегодня вечером. Потом у меня возникла другая замечательная мысль. До темноты оставался час-другой, и я точно знал, что совсем рядом, чуть в сторону реки, находится дом, ставший в 1812 году ареной незабываемых убийств на Рэтклиф-хайвей. В этом месте, столь же памятном и священном, как Тайберн[3] или Голгофа, целая семья была таинственно и безмолвно препровождена в мир иной, после чего деяние совершившего это художника увековечил на своих страницах Томас Де Куинси. Джон Уильямс явился в дом Марров и стер их с лица земли, как стирают надпись с грифельной доски. Что могло быть приятнее для меня, чем прогулка по этой улице?
Для столь величественного преступления дом оказался слишком уж невзрачным — узкий фасад, в первом этаже магазин, над ним жилые комнаты. Этот самый Марр, чья кровь пролилась ради славы, был по роду занятий галантерейщик. Теперь тут расположился магазин ношеной одежды. Так, согласно Библии, оскверняются святые храмы. Недолго думая, я вошел и спросил хозяина, как идут дела.
— Неважно, сэр, — ответил он. — Неважно.
Я вперил взгляд в то место позади прилавка, где Уильямс раскроил череп одному из детей.
— Место как будто бойкое, разве нет?
— Так считается, сэр. Но здесь, на Рэтклиф-хайвей, легких времен не бывает. — Он смотрел, как я нагибаюсь и трогаю пол указательным пальцем. — Такому джентльмену, как вы, польститься здесь, пожалуй, не на что. Или я ошибаюсь?
— У моей жены есть горничная, и я ищу ей платье попроще. Есть у вас что-нибудь?
— Да, сэр, конечно, тут имеется много платьев разных фасонов. Эти, например, вполне еще смотрятся.
Он показал жестом на вешалки со старомодными обносками; я наклонился, чтобы вдохнуть их запах. Какую же затхлую плоть облегало это тряпье! И в этом вот помещении — может быть, на этих вот половицах — художник, алчущий новой крови, преследовал хозяйку дома.
— У вас есть жена, дочь?
Мгновение он смотрел на меня, потом засмеялся.
— А, понятно, о чем вы, сэр. Нет, они никогда этого не берут. Уж не настолько мы бедные.
Джон Уильямс тогда взбежал по этой самой лестнице и убил женщину ударом по голове, хоть она и перегнулась через каминную решетку.
— Тогда вас не должно удивлять, что я не возьму этого даже для горничной. Удачной вам торговли. Меня ждет еще дело в другом месте.
Я вышел на Рэтклиф-хайвей и не мог воспротивиться искушению взглянуть на окна второго этажа. Какие же чудеса совершились в этом замкнутом, ограниченном пространстве! И что, если бы они произошли вновь? Видывал ли город работу столь завершенную?
Но мне надо было начать с мелкой рыбешки, поймать и изжарить килечку. Начинало темнеть, и когда я вошел в Лаймхаус, уже стали загораться газовые фонари. Подходящее время, чтобы показать себя; но я пока что был учеником, подмастерьем, начинающим и не мог выйти на большую сцену без репетиции. Я должен был сперва отточить мастерство, улучив тайный час, выхватив его из суеты большого города; если бы я только мог отыскать уединенную рощицу и, уподобляясь некоему пасторальному существу, обагрить зеленый сумрак лондонской кровью! Но на это рассчитывать не приходилось. В моем собственном частном театрике, в ярком световом пятне под газовым фонарем — тут я должен был оставаться, тут мне надлежало играть. Но для начала сыграем за опущенным занавесом…
У входа в один переулок поблизости от театра «Лейбернум плейхаус» прохаживалась нахальная девчонка; навряд ли ей было больше чем восемнадцать-девятнадцать, но по уличным меркам она была уже в возрасте. Она хорошо усвоила Библию этого мира — можно сказать, сердцем; и каким оно, это сердце, может оказаться, если его извлечь с любовью и тщанием! Я последовал за ней, когда она двинулась к углу Глоблейн, где в меблированных комнатах обитают матросы. Видите, как я уже знаю город? Я заранее приобрел «Новый план Лондона» Марри и изучил все входы и выходы. Дойдя, она остановилась, и через минуту-другую к ней подошел рабочий, весь выпачканный кирпичом, и зашептал ей на ухо. Она что-то ответила, и вслед за тем началось быстрое движение; она повела его по Глоблейн к разрушенному дому. Когда они опять оказались на свету, на ней была пыль с его одежды.
Я подождал, пока они разошлись, и приблизился к ней.
— Пыльная, однако, у тебя работенка, лапочка моя, — сказал я.