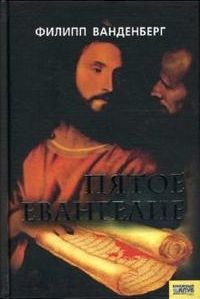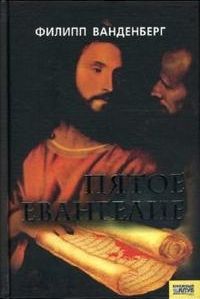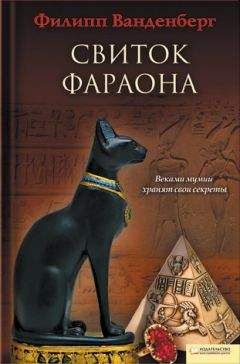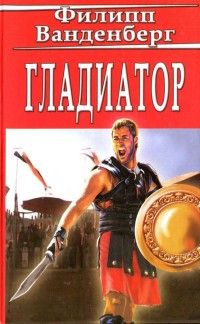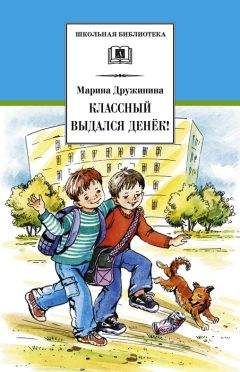Филипп Ванденберг - Пятое евангелие
Вернувшись в отель, он узнал от портье, что миссис Зейдлиц решила уехать раньше, чем планировалось. На вопрос Клейбера, не просила ли она что-нибудь ему передать, старый портье с дружелюбной улыбкой ответил:
– Нет, мне очень жаль.
Было бы неправдой, если бы Клейбер сказал, что в тот момент и ему было жаль. Анна оскорбила его чувства, и Адриан не мог даже представить себе, что произошло бы, если бы она сейчас находилась в соседнем номере. Как бы он повел себя? Просил бы прощения? Но за что? Разве все прошедшие недели он не относился к ней со всем вниманием и уважением, на которое способен настоящий друг?
Вез сомнения, своим поведением Анна унизила Клейбера непростительным образом. Не только события последних дней, но и само поведение ее становилось непредсказуемым и пугающим. И несмотря ни на что, Адриан полюбил эту женщину. Он старался снисходительно относиться к ее странностям и капризам, к странной смеси беспомощности, рассудительности и потребности в защите, с одной стороны, и стремлении к самостоятельности – с другой. Да, он ее любил и ничего не желал так сильно, как помочь ей выпутаться из водоворота губительных событий. Но, подведя итоги, он понял, что его личных проблем в результате проводимого расследовании стало лишь больше. Кроме того, Анна фон Зейдлиц, похоже решила, что неплохо справится и без него. Разве не был ее отъезд лучшим тому доказательством?
Клейбер пытался понять, о чем думала Анна. Оставалось ли в ее мыслях место и для него? Что, если она лишь использовала его, а теперь, когда поняла, что Адриан не сможет помочь в дальнейшем расследовании, решила от него избавиться и вышвырнуть из своей жизни? С другой стороны, он не видел иного выхода – нужно было ехать за Анной.
Мысленно жалея себя, к чему склонен любой насквозь пропитанный текилой мужчина, Клейбер уснул на кровати в своем номере, даже не сняв одежду.
Глава шестая
Замысел дьявола
Улики
1
В передней части длинного зала, через высокие окна которого помещение освещало утреннее солнце ясного осеннего дня в Риме, блестела надпись, сделанная золотыми буквами, видимая даже с последних рядов: «Omnia ad maiorem Dei gloriam». Все ради величия Бога. Столы, расположенные поперек зала, напоминали ступени приставной Лестницы: под прямым углом к боковым сторонам и на равном расстоянии друг от друга. И только справа, там, где книги и древние фолианты поднимались к самому потолку, а каждый ряд Имел свой буквенный код, являвшийся сокращенными словами «Науч.», «Теолог.» или «Ист.» и призванный нести знания, виднелся узкий проход, по которому одетые в темно-серые сутаны иезуиты могли пройти к своим рабочим местам.
Зал в одном из отдельных зданий Папского университета Григориана[23] у Пьяцца делла Пилотта, массивном строении, возведенном в тридцатые годы и больше похожем на какое-нибудь министерство, чем на alma mater, был неизвестен большинству студентов. Даже студентов Института изучения Библии, которые иногда, заблудившись в лабиринте лестниц и коридоров, случайно забредали сюда, у массивных высоких двустворчатых дверей останавливал охранник, запрещавший им войти внутрь. Те же, кто проходил в зал – и но их внешнему виду и поведению можно было сразу сделать вывод, что это не студенты, – должны были внести запись в журнал и расписаться. После чего они могли приступать к работе.
На длинных узких столах были разложены какие-то огромные планы, словно в архитектурном бюро, но при ближайшем рассмотрении они оказывались не чертежами, а свитками, и из них складывалось одно целое – огромная головоломка, состоящая из множества строк и пустых мест, через которые виднелась деревянная столешница.
За одними столами никто не работал, вокруг других собиралось одновременно до десяти иезуитов, которых обычно находилось в зале около тридцати. Каждый был полностью погружен в свою работу, в которой, как могло показаться постороннему, отсутствовала какая-либо система. Конечно же, свою работу иезуиты вели в строгом соответствии с отлично отлаженной системой, которая упорядочивала действия почти с математической точностью. Однако нужно было очень внимательно присмотреться к рутинной работе каждого, чтобы понять, что разложенные на столах бумажные копии на самом деле являлись идентичными. В общей сложности тридцать одинаковых копий, снятых с одного оригинал.
У каждого человека свой характер. Точно так же каждый из работавших здесь иезуитов сформулировал свой подход к решению задач: одни сидели за столом, подперев руками голову и в отчаянии глядя на головоломку перед собой (своим видом они напоминали грешников на картине Микеланджело «Страшный суд»); другие вооружившись лупами, вглядывались в каждую деталь и тщательно зарисовывали на чистых листах бумаги увиденное под увеличительным стеклом – странные символы и знаки, части которых нередко были повреждены либо вовсе отсутствовали; третьи с отсутствующим выражением лица без остановки ходили вокруг столов, словно спасаясь от невидимого преследователя.
Вокруг одного из столов собралось шесть человек. Там, в отточие от других рабочих мест, царило волнение, потому что а это происходило далеко не каждый день – доктор Стефан Лозински, худой поляк с маленькой бритой головой, глубоко сидящими глазами и горбатым носом, зачитывал последовательность слов, которая в тот день оказалась на самом деле последовательностью предложений. По мнению Лозински, прочитанное им соответствовало смыслу коптского текста на одном из фрагментов, который ему удалось расшифровать. Однако услышанное заставило собравшихся вокруг него братьев по ордену вздрогнуть, словно речь шла о чем-то жутком.
– Не он сам был свет, – читал Лозински с видом триумфатора, указывая пальцем на место в тексте лежащей перед ним рукописи, – а лишь хотел он о свете свидетельствовать. Был свет истинный, что просвещает всякого человека, в мир пришедшего. И был он в мире этом, и мир благодаря ему начал быть, но не признал мир его, и так было лучше…
Манцони, один из четырех ассистентов главы ордена, руководивший рабочей группой, существование которой хранилось в строжайшей тайне, раздвинул собравшихся, протиснулся к столу, склонился над бумагами на рабочем месте Лозински и начал сравнивать их с приклеенной к столу копией. Он некоторое время шевелил губами, не произнося ни слова, а затем сказал высоким, неприятным голосом:
– Проклятье, да это же почти слово в слово Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи восемь – одиннадцать![24]
– Но это не Евангелие от Иоанна, – возразил Лозински с насмешкой. – Вам это известно так же хорошо, как и мне.
Манцони кивнул. Они уже давно стали непримиримыми противниками, хотя поляк был простым коадъютором,[25] а итальянец профессом,[26] и к тому же одним из пяти самых высокопоставленных лиц ордена, а значит, никак нельзя было сказать, что они находились в равном положении. Их соперничество касалось научной деятельности. Лозински был великолепным знатоком Библии – по крайней мере, Нового Завета, – что не раз давало ему возможность уточнять высказывания Манцони и даже исправлять его ошибки, которые были порой настолько грубы, что давали повод задуматься о соответствии Манцони занимаемой должности и могли даже бросить тень на весь орден, члены которого часто называли себя элитой христианской веры и науки.
Присутствовавшие при этих перепалках лишь усмехались про себя – они привыкли к постоянным спорам между этими двумя, которые часто напоминали бойцовских петухов и осыпали друг друга ругательствами на смеси итальянского и латыни. Как, например, «Caveto, Romane!», значившее «Отстань от меня, римлянин!», на что противник постоянно отвечал словами «Nullos aliquando magistros habuis nisi quercus et fagos» – «О ты, y которого не было других учителей, кроме дубов и буков!».
Странный тон, характерный для обоих свободомыслящих монахов при общении друг с другом, не оставлял, однако, сомнений в том, что они работали над заданием высшего руководства, которое вызвало невиданное ранее замешательство, сравнимое, возможно, только со строительством Вавилонской башни. Институт изучения Библии университета Григориана наложил на данное исследование гриф secretum maximum, то есть «высшая степень секретности». Ранее подобное случалось лишь однажды – с тайной, скрывавшей причины, по которым Папа Григорий вычеркнул из календаря десять дней и ввел новый календарь, названный в его честь. Манцони собрал в свою группу коптологов, специалистов в области классических языков, а также экспертов по библейским текстам и лучших палеографов из школ «Траубес» и «Шиапарелис» и, даже не посвятив предварительно в детали, взял со всех клятву молчать о результатах и содержании их работы.
Если говорить более точно, то работа тридцати иезуитов основывалась пока что исключительно на одной теории, но ведь в основе существования Церкви лежат именно гипотезы, поэтому курия очень серьезно относится к каждой теории. В этом случае речь шла о разрозненных фрагментах пергамента, которые возникли словно из ниоткуда и стали настоящим зловещим предзнаменованием для матери Церкви, подобно письменам, явившимся вавилонскому царю Валтасару во время пира – это видение имело трагические последствия.[27] Ни один из ученых мужей не отваживался сказать вслух, в чем, собственно, состояла суть дела, хотя в их распоряжение попадало все больше новых листов и фрагментов того же источника. И содержавшиеся в них намеки вызывали достаточно серьезные опасения.