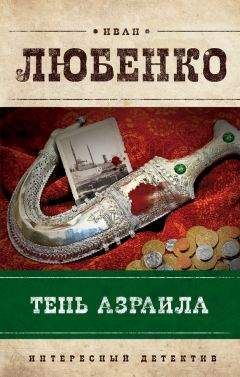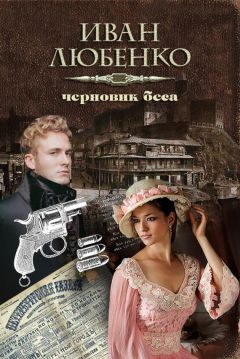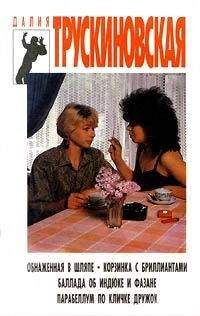Далия Трускиновская - Государевы конюхи
— На ремешке.
Настасья ответила так хмуро, что Данилка наконец-то догадался — девке неохота толковать о кистенях, и скажи он еще хоть словечко — обложит матерно. И тут же парень вспомнил, зачем сюда явился.
— Ты чего ту бабу увезла? — решительно спросил он.
— Какую еще бабу? — Настасья выглядела удивленной, однако не столько обвинением, сколько странной осведомленностью вопрошавшего.
— Брось, я сейчас с Варварки. Ты приезжала ко двору князей Обнорских и увезла ту бабу, у которой мы давеча отняли мешок с душегреей. На что она тебе?
— А я ее до времени припрятать решила, — снова озаряясь безмятежностью, отвечала Настасья. — Это не твое, куманек, дело.
— Как это — не мое? Ты же знаешь, что мне все нужно, что с той душегреей связано!
— Мне, куманек, нужнее. Да и нельзя ей было там оставаться. Она столько знала, что удивительно, как и до утра дожила.
— Да если я это дело не разведаю — Родька ж под батоги пойдет! Того гляди, и головы лишится!
— Сколько я про того Родьку от тебя слыхала, ему, питуху, батоги только на пользу пойдут, — возразила Настасья. — И не допекай меня, попрошу вон Авдотьицу — и выведет за белые ручки.
— Где баба? — не менее хмуро, чем сама Настасья, спросил Данилка. — Ты ее где-то на Неглинке спрятала! А она мне нужна!
— Говорят же тебе — мне она нужнее! Мое дело похуже твоего будет. Ты-то по шее схлопочешь от конюхов — и они на том успокоятся. А я… а мне…
Она словно бы замялась.
— Что — тебе?
— Не суйся, куманек, куда не след. Ты мне поверь — баба в нужный час заговорит. Она такое знает, что лучше ее до поры под замком держать. И тогда правда про твоего Родьку выплывет.
— Ты что, знаешь правду? — обомлел Данилка.
— А ежели и знаю? — Тут Настасья словно бы вспомнила про Авдотьицу и повернулась к ней. — Вишь ты, какая у нас веселая беседушка получается!
— Расскажи ему, Настасьица, — посоветовала девка. — Куманек тебе неотвязный попался. Расскажи, свет! Не может быть, чтобы не понял!
— Что это я должен понять? — спросил Данилка вроде и спокойно, однако невольно в голосе прозвучало возмущение.
— А то и понять! Ты ж не только Феденьке крестный богоданный, ты и Настасьице кум богоданный. Коли ты за нее не вступишься — больше некому!
— Да что ты городишь! — воскликнула Настасья.
Слова подружки привели ее в ярость. Меньше всего она сейчас была похожа на женщину, которая нуждается в чьей-то защите.
— Что надо, то и горожу! — невозмутимо отвечала Авдотьица. — Послушайся доброго совета — расскажи! То, о чем мы ночью толковали! Расскажи, свет! А я мешать не стану, я к Федосьице пойду, по хозяйству помогу.
И, преспокойно накинув шубейку на плечи, вышла.
— Гляди ты, все за меня решила… — произнесла Настасья. — В последний раз прошу, куманек, — отвяжись! Не хочу я обо всем этом вдругорядь вспоминать!
— Я хочу знать, как это все промеж собой увязано — и Устинья, и та сваха, Федора Тимофеевна, и та девка с посохом, и баба, которую ты от князей Обнорских увезла, — сказал Данилка. — Больше мне знать ни к чему. А это — надобно! Ты ж сказала — правду знаешь!
— Куманек, ты не выпил ли с утра? — вдруг забеспокоилась Настасья.
— Нет, не выпил, повадка у меня такая. И на конюшнях ругали, а отделаться не могу. Ну так будешь ты говорить?
— Да не могу я тебе только половинку рассказать, я ж сама во все это дело замешалась, — призналась наконец Настасья. — Иначе я-то половину скажу, а ты на меня руками махать примешься, мол, ополоумела кума, бредит наяву.
— Не примусь, — пообещал Данилка.
— Как ты полагаешь, с чего бы мне уж давно все ясно стало? Ты тот двор, где тебя Гвоздь опоить пытался, впервые увидел, а я за ним давненько присматриваю. Нехороший это двор, куманек, и люди там живут недобрые. Тебя вот из проулочка завели да в подклете покормили, а коли с улицы — так там и ворота знатные, и терема многоглавые, сам видел. И все в этом дворе так — спереди резные наличники да распрекрасные крылечки, образа в каждой горнице, а сзади — мерзость!
Вдруг Настасья вскочила, шагнула к Данилке и положила ему руки на плечи.
— Не спрашивал бы ты меня об этом, куманек! Поверил бы на слово! Не забивал бы себе голову всякой пакостью! Не могу я говорить об этом… Не могу! Давай, может, завтра я все тебе расскажу?..
Но тут и Данилка ухватился за Настасью.
— Завтра? А почему не сейчас?
Столько нетерпения явил он в голосе, что Настасья невесело улыбнулась. Так и стояли они, словно бы в обнимку, кум да кума, да только не любовь была между ними, а четыре смерти неведомо ради чего…
И Настасья-то не впервые ощущала тяжесть крепких мужских рук, а Данилка как раз впервые ухватился за девку и вдруг осознал это, но от растерянности, которую нельзя было обнаружить, закаменел.
— Дело это, куманек, такое, что большие люди замешаны, — наконец сказала Настасья. — Если мы эту кучу дерьма по-глупому расковыряем — знаешь, как завоняет?
— Ну так что ж? У нас на конюшне тоже, чай, не гуляфной водой побрызгано..
Она постояла, подумала, опустив глаза, да вдруг подняла, и Данилка увидел в них странный блеск.
— Никому не рассказывала, а тебе расскажу. Других кумовьев у меня нет, а ты — будешь знать. Хочешь — суди, не хочешь — не суди!..
Данилка даже испугался.
Отродясь он не слыхивал бабьих слезных исповедей, но почуял, что дело неладно. В Настасьином голосе явственно слезы вскипели.
— Давай-ка сядем лучше, давай сядем на лавку, — сказал он, и подтолкнул Настасью, и усадил, и сам сел рядом, достойно сел, на целую пядь от Настасьи, освободившись тем самым от неожиданного и чересчур его встревожившего объятия.
Но Настасья тоже вроде бы села чинно, а вдруг оказалось, что она привалилась тут же к Данилкиному боку тесненько, и тогда он понял: есть у девки за душой что-то страшноватое и очень нехорошее.
— Слушай, Данилушка… — зашептала Настасья. — Я не век зазорной девкой была! Были у меня отец-мать, милые братцы и сестрицы! Росла, как цветик в саду огороженном! Ветерок на меня дохнуть не смел! Ты не гляди, что я личиком почернела! Солнышко на мое личико глянуть не смело, мамушки и в торговые ряды за белилами не посылали — без белил я была беленькая! Вот теперь страшна сделалась, черна!..
— Да Господь с тобой! — возразил Данилка, осознавая, что свалятся они оба с лавки, коли сейчас Настасью не обнять.
— Нет, Данилушка, не уговаривай. Подурнела! — с отчаянием в голосе молвила девка. — И то — годы мои миновали. Девка до двадцати только лет красуется, а потом каждый годок красу крадет. Кабы теперь родила! Сжалился бы надо мной Господь, вернул бы красы хоть малость! Вон на Федосьицу взгляни! Как твоего крестничка, Феденьку, родила, так и похорошела!
— Да Господь с тобой! — повторил Данилка.
Сейчас, когда слабенький свет от лучины являл ему лицо Настасьицы в умопомрачительной близости от его собственного лица, он был не в состоянии связно объяснить девке, что она при всей своей смуглоте краше ясного дня. А мог лишь одно — обнять…
— Слушай меня, свет… Не уберегли меня, ушла я из дому, жила я с княжичем, Данилушка, грешна — жила! Обманом он меня из дому увел!
Тут Данилка и вовсе дара речи лишился.
Девок на Москве берегли. Не так чтобы пуще глазу, но и лишней воли не давали, в одиночку из дому не выпускали. К подружкам ехать — с мамушкой, в церковь Божию — хоть с кем-то из комнатных баб. О том, что здесь можно девицу со двора свести, он пока не слыхивал.
— Слушай, Данилушка, вдругорядь не соберусь… А сейчас оно прямо само на волю просится, — Настасья быстро вздохнула и задышала частенько, как если бы надумала зарыдать. — Женишься, детки пойдут, доченьку тебе жена родит — никуда без матери не пускай! А лучше — без родной бабушки! Девки — глупые, доверчивые, от хитрых женок упастись не умеют! Я помолиться шла, со мной только Аксиньица была, ровесница моя. И как только нас вдвоем за ворота выпустили? И нам бы площадку перед церковкой перебежать, зажмурясь! А мы, две дурочки, чинно шли, на людей глядели, вот нас и приметили. После возвращаемся, а к нам бабка жмется. Внученьки, говорит, разумницы, красавицы, пособите на ту сторону перейти, скользко! Нам бы ответить — кто тебя, бабка, до паперти довел, тот пусть и обратно на себе тащит! Да не в грубости росли, вежливому обхождению обе были навычны. Повели мы ее, а она так нас сладко нахваливает! И доплелась она с нами до самых наших ворот. И узнала, где я живу, каких родителей дочь…
Тут Настасья, видно, совсем уж собралась признаться, какого она роду-племени, да передумала. И лишь вздохом выдала свою тоску по семье, свой стыд неизбывный…
— А была она, Данилушка, князей Обнорских мама. Еще старого князя вынянчила, а княжич у нее заместо родного внука был, и всякую его блажь она исполняла. Хитрая была старуха Егоровна… да… Обвела она меня, Данилушка, вокруг пальчика, а было ей в те поры куда за семьдесят, а мне-то шел восемнадцатый… И подстерегла она нас с Аксиньицей вдругорядь. И потом уже иду я улицей, справа от меня Аксиньица, а эта гадюка подлая слева пристроилась и на ушко мне шепчет: Настасьица, красавица, велено мне словечко передать, полюбилась ты сердцу молодецкому! Я так и встала, а она опять шепчет: Настасьица, умница, обернись — его увидишь! И не вынесла я искушения — обернулась! А он следом на коне едет! Я и обмерла. Ведь был он тогда, Данилушка, как солнышко ясное хорош! Кафтан на нем малиновый с золотным кружевом, сапожки сафьяновые, конь разукрашен — царевич из сказки! Очи — соколиные!..