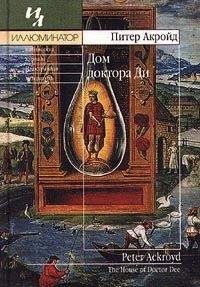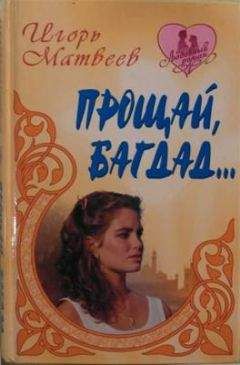Питер Акройд - Процесс Элизабет Кри
— Вы заставляете людей смеяться, Дэн. Но я теперь смеяться не способна.
— Конечно, иначе и быть не может. Когда такое происходит, Пегги, я совершенно лишаюсь дара речи. Правда, лишаюсь.
— Не огорчайтесь из-за этого.
— Как же мне не огорчаться? Я хотел объяснить вам, что чувствую, и облегчить этим ваше горе. Так все нелепо. Так бессмысленно.
К нему приходили только самые смиренные, самые робкие слова утешения, а на сцене он мог бы разразиться пышной горестной тирадой, после чего выставить свою же беду на смех.
— Теперь все будет в порядке, — сказал он. — Все у вас будет в порядке.
— Ох, не думаю, Дэн.
— Я тоже, правду сказать, не думаю. Но, знаете, время залечивает раны. — В этой маленькой комнате он ощущал стеснение и беспокойство и теперь начал ходить взад-вперед по краю вытертого коричневого ковра. — Я вот что, пожалуй, сделаю. Помогу вам открыть небольшую торговлю одеждой где-нибудь подальше отсюда. Семья родом из Лидса?
— Из Манчестера.
— Ну вот, что может быть лучше, чем магазинчик в Манчестере?
— Но я не могу…
— Вы одна после него остались, Пегги. Вы должны ради него.
— Если вы так это поворачиваете…
— Да, я так это поворачиваю. Но о чем я попрошу вас прямо сейчас — это немного поспать. Вы страшно вымотаны, Пегги. Пойдемте. Спальня там у вас?
Лино всегда умел дать точные указания, и теперь он словно вел репетицию. Пегги встала и двинулась было к двери, но тотчас же вернулась, как будто не была уверена, что от нее хотят именно этого.
— Почему все же это случилось, Дэн?
— Не могу сказать. Тут слишком… слишком глубоко.
Странная, вероятно, характеристика для такого жестокого преступления, но в тот миг он подумал о сходстве между убийствами Марров и Джеррардов. Здесь чувствовался ритуальный элемент, который при всей искренности его ужаса возбуждал в нем и некий интерес.
— Все на свете должно иметь причину, Дэн, разве нет? — Она теребила шею пальцами левой руки. — Не помню слово, но идут разговоры про это… существо.
— Про Голема? — Дэн будто отмахнулся от этого прозвания, как от радужного мыльного пузыря. — Слишком был бы легкий ответ. Забавно, что люди меньше боятся Голема, чем боялись бы просто человека.
— Но многие в него верят. Вот и все, что я слышала.
— Люди готовы поверить во что угодно. В этом я давно убедился. Знаете, как я всегда говорю? Верь не речам, а очам. — Он вновь беспокойно мерил шагами комнату. — Можно предположить, — сказал он, — что убийца был знаком с вашим братом. Вы, случаем, не замечали кого-нибудь поблизости? До того, как это произошло.
— Как вам сказать? Вот кручу, кручу все в голове без конца.
— Ну так давайте. Прокрутите еще разок.
— Когда стало смеркаться, я открыла окно мансарды, просто чтобы подышать, и мне показалось, будто внизу движется какая-то худенькая тень. Я понятно говорю? Я про это сыщику сказала, но он говорит, они ищут большого широкоплечего мужчину.
— Этакого льва?
— Наверно. Но я-то увидала всего-навсего маленького бродяжку.
— Ну-ка поглядим. — В игру мигом вступило творческое начало, все, что Лино знал о пластике и жесте, и он бочком скользнул в угол комнаты.
— Примерно так, Дэн. Только еще плечи слегка шевелились.
— А теперь?
— Вот-вот, похоже.
— Забавно получается, Пегги. Хотите — верьте, хотите — нет, но выходит, что вы видели на Рэтклиф-хайвей женскую фигуру.
Глава 35
Когда по делу Элизабет Кри был произнесен приговор, в зале повисла долгая тишина. Эта тишина, поняла она, будет окружать ее до самого конца. Эта тишина — навсегда. Можно кричать, но не будет никакого эха. Можно молить, но ни единого звука не раздастся в ответ. Если существуют на свете прощение и жалость, то они немы, у них вырезан язык. Тишина была полна угрозы: настанет день, когда она разверзнется и поглотит свою жертву. Но было в ней и некое обещание, зов к причастию, к растворению в общности безмолвия.
Ее признали виновной в убийстве мужа и приговорили к смертной казни через повешение, которая произойдет во дворе той же тюрьмы, где арестантка содержалась. Она знала с самого начала, что ей придется увидеть на голове судьи черную шапочку, и не испытала особенных чувств, когда он ее надел; вид у него, подумала она, как у Панталоне из пантомимы. Нет, слишком уж румян и толст. Если на что и егодится, то разве на роль Дамы. Ее провели из зала суда подземным коридором, посадили в закрытую карету и отвезли в Камберуэллскую тюрьму. Даже тогда ей не захотелось ни вздохнуть, ни заплакать, ни помолиться. Кому молиться, какому богу? Тому, который знает правду о ее поступках и о поступках ее мужа? Ночью в камере смертников она затянула одну из своих любимых песен — «Слишком я молода, чтобы знать». В последний раз перед тем она ее пела, когда похоронили Дядюшку.
Глава 36
После того как Дядюшка покинул нас ради грандиозной небесной пантомимы, у нас с Дэном никогда уже не было прежней дружбы. Он, конечно, не грубил мне в лицо, но я чувствовала, что он избегает меня; хотя он никогда об этом не упоминал, думаю, он обиделся из-за того, что Дядюшка оставил мне по завещанию пятьсот фунтов и все свое фотографическое снаряжение. Порой мне приходило в голову, что Дэн может знать про постыдный Дядюшкин секрет и догадываться, что я в этих делах участвовала, но тут ничем помочь было нельзя. Так что мы оба пытались сохранять прежнюю мину, но былое рвение во мне иссякло. Публике очень нравился один мой номер — мелодичная песенка под названием «Плач ирландской служанки по дому, или Где ты, где, моя картошка?» — и все же нужное душевное расположение меня покинуло. Смерть Дядюшки, вероятно, подействовала на меня сильнее, чем я думала, и в поисках поддержки и утешения я безотчетно обратилась к Джону Кри. Я, конечно, видела, что он джентльмен; другие репортеры не шли с ним ни в какое сравнение, и Дядюшка давно уже сказал мне, что у Кри имеются «виды на будущее».
— Знаю, — ответила я, сама невинность. — Он мне говорил, что пишет пьесу.
— Да я не про то, милая. Я про бакшиш. Про деньги, в общем. Когда-нибудь он в золоте будет купаться. Его папаша богат, как Аладдин.
Джон Кри уже в ту пору выказывал мне знаки внимания, и должна признаться, что Дядюшкина новость пробудила во мне некоторый интерес.
Примерно через месяц после похорон я сидела в зеленой комнате «Уилтона» с Дьяволо, одноногим гимнастом, и тут вошел Джон Кри.
— А вот и «Эра» пожаловала, — сказала я. — Вы видели Дьяволо на проволоке, мистер Кри?
— Еще не имел этого удовольствия.
— Такое нельзя пропускать. Вы, конечно, посидите с нами минутку?
Он пододвинул стул, и мы начали обмениваться сплетнями, как все делают в мюзик-холлах, а потом Дьяволо сказал, что пойдет глотнуть вечернего воздуха; он был неравнодушен к копченым колбаскам и вскоре, я знала, будет уписывать свою порцию, запивая стаканом портера.
— Ну что же, Лиззи, — сказал Джон Кри, когда он вышел. — Словно сама судьба нас все время сводит.
— Когда это я вам разрешила называть меня Лиззи?
— В среду на позапрошлой неделе во второй кабинке мясного ресторана Блэра.
— Что за память. Вам бы на сцену, мистер Кри.
— Джон.
— Сделайте одолжение, Джон, проводите меня к выходу. Тут что-то душно.
— Двинемся по следам Дьяволо?
— Нет. Я знаю его привычки. Это было бы неделикатно.
— Тогда, может быть, прогуляемся? Вечер для этого превосходный.
Мы вышли из «Уилтона» и направились в сторону Уэллклоус-сквер. Не сказать, что это лучшая часть города — оттуда рукой подать до Шадуэлла, — но почему-то я чувствовала себя с ним в безопасности.
— Как подвигается «Перекресток беды»? — поинтересовалась я.
— Вы знаете, дело идет. Я почти уже закончил первый акт. Но что-то не могу все решить, как поступить с героиней.
— Убейте ее.
— Вы серьезно?
— Нет, я никогда не говорю серьезно, — попробовала я отшутиться. — Я считаю, ей надо выйти замуж. Главная героиня всегда кончает замужеством.
— Вы так думаете?
Я ничего не ответила, и мы продолжили путь в сторону реки. Ближе к ней дома стояли не так плотно друг к другу, и я увидела мачты кораблей, бросивших якорь в доке; в какой-то миг на память мне пришел Ламбет с его зашвартованными у берега рыбацкими судами.
— Я рассчитываю, — сказал он наконец, — что, когда я закончу пьесу, вы сыграете в ней главную роль.
— Как зовут героиню?
— Кэтрин. Кэтрин Горлинс. В настоящий момент она стоит на грани нищеты и падения, и я размышляю над тем, не спасти ли ее в следующей сцене.
— Нет, пусть себе идет на дно.
— Почему?
— Джон, меня иногда удивляет, как мало вы смыслите в театре. Людям нравится видеть грязь на сцене. — Я помолчала. — Конечно, в последнем акте вы можете ее спасти. Но сперва пусть пройдет весь путь страданий.