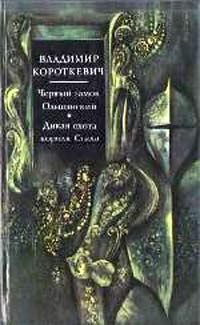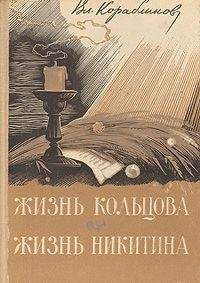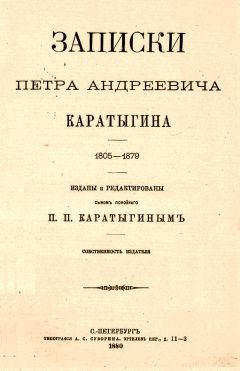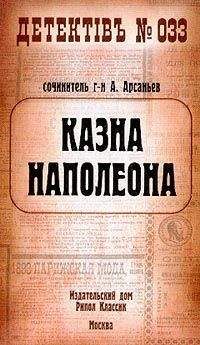Владимир КОРОТКЕВИЧ - Черный замок Ольшанский
– Какой?
Змогитель, возвращаясь, слышал конец разговора. Он выполнил принцип белорусских будочников, который, по словам Глеба Успенского, звучал так: «тащить и не пущать».
– Да басни, – сказал он. – Говорят, что когда те – Валюжинич и Ольшанская – собрались убегать, зодчий их предупредил: «знают, следят».
– Почему?
– Говорили – был любовником сестры Ольшанского. Ну и… черт их знает, тайны людских сердец.
– Ну, что случилось с ними – неизвестно, – сказал я. – А с ним?
– Говорят, сорвался с обледеневших лесов. И та сестра залила в корсте[76], в колоде, его труп медом и отвезла, чтобы сделали мумию. И до сего времени он там, в подземелье, среди других Ольшанских лежит. А она так незамужней и умерла.
– Значит, не сам Ольшанский был учредителем этого костела?
– Люди говорят, сестра. Но это те же «шведские курганы» да «французские могилы». Записан – он.
И тут я все же задумался. Почему он, тот Ольшанский, считается строителем всех костелов в округе? И этого тоже. Подозрение – нехорошая вещь, но тут оно снова тронуло мою душу. Если ложь в этом, значит, мог соврать и на суде, когда клялся на евангелии, что беглецы – живы.
Простившись с ними, я закурил (много я начал курить) и зашагал через пролом к единственным воротам замка. Вечерние апельсиновые лучи ложились на молодую листву, и замок посреди этой роскоши казался гадкой, но и красивой (а ведь так действительно бывает) жабой в окружении цветов. Вошел в ворота и увидел на каменной глыбе ксендза с блокнотом в руке.
– Что это вы здесь, отец Леонард? – спросил я и снова удивился этому приятно-лисьему выражению на умном лице.
– Люблю здесь думать.
– Проповеди составлять?
– Иногда и проповеди составлять, – сказал «еще один подозрительный». – Отдыхать.
«А чтоб тебя, – подумал я, – типично евангельский тип, который не переносит лжи и несправедливости».
Многому недоброму научило и меня это дело: недоверию ко всем без исключения людям.
– И ходы знать?
– И ходы… Вы ужинали? Нет? Так пойдемте ко мне.
…В плебании ксендзу принадлежало я не знаю сколько комнат. Мы сидели в одной, девственно белоснежной, с множеством разных статуй на стенах (в большинстве ярмарочных, гипсовых, как китайские божки, разрисованных в розовое и голубое, а порою и старых, деревянных, пострадавших от времени, давным-давно нуждающихся в реставрации). А на столе была скатерть-самобранка (ведь не сам Жихович приготовил все это и подал горячим на стол). Тут тебе и карп, запеченный в тесте, и травничек анисовый, и «утопленник», кипящий в масле (все старые белорусские кушанья, едва не из первой нашей поварской книги «Хозяйки литовской»), и «отведайте это варенье из стеблей аира, самая нижняя часть».
И на все это гаргантюанство умильно глядел большой черно-белый (а уши «страшно похожи на локоны Натальи Гончаровой с портрета Гау», как сказал ксендз) спаниель Ас.
Ас по-русски означает «ас», по-белорусски – ничего, а по-польски – «туз». Жихович положил ему на нос кусок сахара и приказал терпеть. Шагреневый кончик носа страдальчески морщился, из глаз чуть не текли слезы. И ксендз смилостивился:
– Ас! Милиция!
Пес подбросил сахар в воздух, поймал его и, поджав хвост, бросился под кровать.
– Ну, а если и впрямь милиция? Что тогда? – рассмеялся я.
– При нем? Нне-ет… Ну-ка, травничка.
Ас вылез из-под кровати и снова облизался.
– Знаете, что мне пришло в голову? Из Шевченко.
– Догадываюсь, – подумав, сказал ксендз. – Как дети на пасху хвастались, сидя на соломе. Одному отец чоботы справил, другой мать платок купила… «А менi хрещена мати лиштву вишивала»[77].
– Правильно. «А я в попа обiдала, – сирiтка сказала»[78].
– Ну, так почему «попу» и спустя сто лет с гаком не накормить «сиротку» обедом? Думаете, я не вижу, как вы на меня в «век ракет и атомов» глядите? Сквозь «ходы» и «тайны».
– Я не гляжу.
– То-то же. И хотя оправдываться ни перед кем не хочу – перед вами почему-то хочется. Чувствую что-то…
– Не надо оправдываться.
Жихович задумался. Даже лицо его обвисло.
– Особенной жертвы в этом моем поступке не было. Мне и до сих пор стыдно, что я поднес церкви негодный дар, но это правда – жертвы не было.
Рука его гладила уши Аса.
– Я был очень верующий. Больше, чем теперь. И в войну впервые влюбился. И – вещь почти несовместимая – был в подполье… Ее схватили, когда я утром пошел за сигаретами… Курите… После войны я стал ксендзом… Особой жертвы не было.
…Я брел от него и думал, что в самом деле мы все отравлены войной. Возможно, безумны. Но откуда мне было знать, кто, как и что? Хотя бы и тот же ксендз Жихович.
А вечер имел трагикомическую развязку. Довольно тяжелую и одновременно достаточно комичную. Я пришел в свою боковушку и завалился спать. Слишком рано. И даже во сне чувствовал, как у меня болит голова. Что-то с нею в последнее время происходило. Все более тревожное и опасное.
Сон был тоже тяжелый. Та самая галерея, на которой я тогда видел тени. Молодой, светловолосый мужчина (высокий, мощные мускулы, детские глаза, такие синие, какие редко бывают на этой земле). Молодая женщина, почему-то очень похожая на Сташку.
– Я не могу, – шелестела она. – Он выдал нас, выдал друзей, выдал тебя.
– Не только выдал, – бросил он. – Присвоил все имущество восстания. Как ты могла когда-то пойти с ним?
– Я тогда не знала тебя. И я не знала, что он может…
– Он может еще и получить от короля треть за выдачу друзей, этот знатник[79], – прозвучал глухой, но приятный голос. И я увидел, что к ним приближается сильный худой и высокий светловолосый человек.
Тут я догадался, что это Гремислав Валюжинич, инициатор «удара в спину», жена Витовта Федоровича Ольшанского Ганна-Гордислава и зодчий костела, башни которого, одетые лесами, уже возвышались над стенами.
– Этот истинствовать[80] не будет, – сказал Гремислав. – Для него есть две очины[81]. Одну он продаст, но за вторую зубами будет держаться, глотки грызть за свои скойцы[82].
– Родные, – сказал зодчий, – он все же откуда-то знает о вас. И потому бегите. Пока не поздно. И возьмите с собой альмариюм[83] с деньгами. Они не принадлежат ему. Они – людские, ваши. Тех, кто восстали. Бегите. Садитесь где-нибудь на Немане на окрут[84] – и куда-нибудь в немцы. Потом вернетесь, когда снова придет ваше время, когда надо будет покупать оружие. Продажный род. Что предок Петро, который князя Слуцкого выдал, что этот.
– Кони есть? – спросила женщина.
– Есть кони, – сказал Гремислав. – Ключаюся[85] с тобою, дойлид. Но столько ремней[86] золота, столько камней, столько саженых[87] тканей – разве их повезешь в саквах[88]?
– Возьмите часть. Остальное припрячем здесь.
– Я не хотел, – сказал Валюжинич. – Но зэлжил[89] он самое наше белорусское имя.
– И пусть останется ни с чем, – жестоко сказала женщина. – Без меня и без сокровищ. Таков пакон[90]. И пускай нас оттуда достанет, акрутны[91], апаевы[92] псарец[93]. У него своя судба[94], у нас своя. А тебе, великий дойлид, благодарение от нас и от бога.
– Будете благодарить, когда все окончится хорошо.
…И вот уже падает на только что засыпанную яму огромный спиленный дуб (где я читал про такой способ захоронения сокровищ? – отмечает во сне подсознание), и вот уже и следа нет, и ночь вокруг.
…И вот уже рвутся в ночь, прочь от стен замка диким лесом два всадника. У одного при бедре длинный меч, у второго, меньшего, корд[95]. Исчезли.
И вот худой человек поднимается по лесам башни костела. Стоит и глядит в сторону бескрайних лесов, где далеко-далеко – Неман. И тут алчная растопыренная пятерня толкает его в спину, и в глазах недоумение… Стремительно приближается земля.
И это уже как будто не он, а я падаю, как несколько лет назад со скалы на Карадаге (чудо и собственная сообразительность спасли тогда меня от неизбежного, – отмечает подсознание).
Этого чудо не спасло. Я опять смотрю сверху. И он, отсюда маленький лежит на земле, как кукла… Опять я внизу. Над трупом стоит коренастый темноволосый человек. Узкие глаза. Жесткий прикус большого рта. Сребротканная чуга[96] падает широкими складками. А напротив него довольно уже зрелая женщина в черном.
Витовт Федорович Ольшанский и его сестра.
– Положите в корсту, в мед, – горько говорит женщина. – И в Кладно к бальзамировщику.
– Ты, может, и в костеле его положишь?