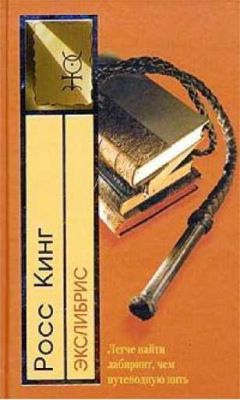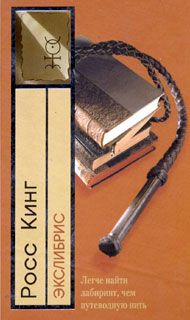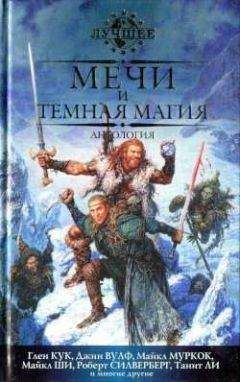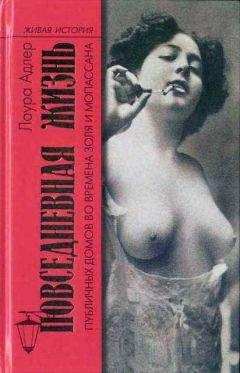Хавьер Аррибас - Круги Данте
Глава 37
Данте считал, что эти слова принадлежат только ему; он так говорил, когда убеждал Франческо продолжить общение в более разумном месте, чем дворец наместника Роберта. Он подумал, что едва ли хватило чаши вина, чтобы чувства начали притупляться.
― Что вы думаете об этих бегинах? Они представляют какую-нибудь опасность для Флоренции или ее правительства?
― Я не могу сказать, ― задумчиво ответил поэт.
― Вы казались до сих пор более уверенным.
― Я уверен только в том, что они что-то скрывают, ― пояснил Данте. ― Всей правды нет ни в словах этого слишком набожного человека, ни, конечно, в словах бесстыдника Филиппоне. Они заняты не только молитвами, просьбами и мольбами, я не думаю, что они живут исключительно на милостыню, подаваемую у Санта Кроче. От кого было то послание, которое они ожидали, приняв нас за других? Кто и для чего шлет послания иностранцам в таком жутком квартале Флоренции? ― громко спросил он.
Отвлекшись, Данте взял каштан из чаши. Он был горячим, поэт сжал его в ладонях, наслаждаясь приятным теплом. Франческо с интересом смотрел на него, но не прерывал его размышления.
― Все невероятно скрыто, ― продолжал Данте, ― как этот дом с закрытой дверью и заколоченными окнами. Это понятно, когда речь идет о такой незаконной таверне, как эта, но не о доме «смиренных кающихся», как они себя называют.
Данте перевернул каштан и стал чистить его, продолжая размышлять вслух:
― Наши бегины несколько месяцев находятся в Италии, но они же сами признают, что были и в других итальянских землях. Они зрелые люди, ты понял это по нашей встрече. В итоге, возможно, что до 1300 года от Рождества Христова они пребывали на своей фламандской родине, а потом должны были ее быстро покинуть, ― заключил Данте, отправил в рот каштан и осторожно прожевал его.
― И что? ― нетерпеливо спросил Франческо.
― В это время они организовали в своих землях восстание, ― твердо произнес поэт. ― Одно из тех восстаний отчаянных голов, о которых я тебе говорил раньше и которые ты, как и многие другие, предпочитаешь считать химерой.
Франческо вяло изобразил неудовольствие. Возможно, это была больше реакция на неприятные воспоминания о его прежних мыслях.
― Это началось в Брюгге, ― продолжал поэт, ― под предводительством одного любопытного человека ― бедного ткача по имени Пьер де Коннинк. Но весь мир знал его как Короля Пьера из-за его доблести и способностей, особенно ораторских. Говорят, что ему было не менее шестидесяти лет и что он был слабый и голодный, одноглазый, он не знал ни французского языка, ни латыни; тем не менее то, что он делал с родным языком, было чудом, потому что он сумел поднять множество мастеровых против богатых хозяев. И среди восставших были ткачи, как сам Пьер, мясники, башмачники, валяльщики шерсти, красильщики, ― уверенно продолжал Данте.
― И они победили? ― скептически спросил Франческо.
― На какое-то время у них получилось, ― ответил Данте, ― потому что они были более ловкими, чем эти могущественные люди, которые их презирали. Пока последние просили помощи у французского короля, чтобы подавить восстание, мятежники смогли объединиться с местными дворянами в войне против Франции. С этой поддержкой они сперва составили заговор в Брюгге. Он закончился настоящей резней французов, по сравнению с которой бледнеет бойня, которую мы знаем как сицилийскую вечерню.[50] Рассказывают, что улицы и площади были заполнены трупами и что потребовалось три дня, чтобы вывезти их на повозках за пределы города. Кроме того, среди мертвецов были могущественные горожане, которые совсем недавно кичились своим богатством и гордо шествовали по улицам, а теперь утонули в крови. Тогда больше с энтузиазмом, чем с настоящей подготовкой, (потому что эти люди не привыкли к битвам, у них почти не было оружия) они пополнили ряды графа Гвидо Фландрского в Куртрае. Потом они нанесли поражение французской коннице ― ни больше ни меньше. Цвет мировой кавалерии был побежден и опозорен жалким отрядом, так плохо вооруженным, как мало кто может себе представить, ― заявил Данте с нескрываемым удовлетворением, которое свидетельствовало о его отношении к французам.
― Что общего имеет все это с бегинами с Санта Кроче? ― спросил Франческо нетерпеливо.
― Ну, ― сказал Данте, ― через некоторое время могущество французов вернулось, и они решили уничтожить врага. Фламандское дворянство получило почетный мир, но он означал конец восстания, и многие мятежники предпочли сбежать раньше, чем им пришлось бы под пытками признать свои преступные деяния. Возможно, это был момент, который они выбрали, чтобы принять покаяние на итальянской земле.
― Дайте мне хороший предлог, и я пошлю туда несколько наших солдат, ― уверил его Франческо бесстрастно. ― Они выбьют их миленькую дверь, и вам приведут этих фламандских бегинов во дворец закованными в кандалы.
― У меня нет такого предлога и нет желания добиваться подобных мер, ― твердо ответил Данте. ― И то, что я тебе говорил, это предположения, пока нет доказательств.
― По крайней мере, некоторые были бы уже повешены под солнцем, а некоторых уже вынули бы из петли, ― сказал его собеседник, прежде чем налить себе еще вина.
― Да, ― весело произнес Данте. ― Наши соотечественники имеют обыкновение утверждать, что там, «где нет повода для преследования, необходимо его изобрести». Я прочувствовал это на своей шкуре; кроме того, если они не имеют с нашим делом ничего общего, то преступления будут продолжаться, а мы только потеряем драгоценное время. И потом, что мы скажем нашим «кающимся братьям»?
― Ба! ― воскликнул Франческо. ― Вероятно, они не бросают никого в нужде, а некоторые копят свое подаяние.
Данте чувствовал себя снова опустошенным. Эти слова напомнили ему общее отношение к правосудию, которое иногда превращало понятие справедливости в нечто совершенно пустое. Данте задавался вопросом, где и когда «благородная дочь Рима» отставила в сторону священные традиции справедливости своих предков. Флорентийцы посвящали себя тому, чтобы обосновать такие явления, как вендетта, незаконные наказания, которые терпели многие невиновные, потому что главная цель состояла в том, чтобы не дать уйти действительно виновному. Таким образом, презиралось собрание ученых римских юристов, а практиковались произвольные аресты по малопонятным и вымышленным обвинениям. Систематически применялись пытки для получения разного рода признаний. Ежедневно можно было увидеть, как оправдывались виновные, если они стояли высоко на социальной лестнице; как обвинялись невиновные, у которых, к несчастью, не находилось достаточных денежных средств. И церковь в своей попирающей законы борьбе с ересями не укрепляла идеалы христианской справедливости, она была поглощена земным правосудием. Инквизиция соединяла в себе функции следователя и судьи на закрытых процессах, обладала огромной властью для арестов и заключения под стражу преступника, при этом было необязательно, даже не рекомендовалось, говорить обвиняемому, в чем его вина. Необязательно было называть имена свидетелей, давать задержанному защитника, оспаривать документы и доказательства было так же невозможно, как отменить окончательный приговор. Кроме того, инквизиция принимала обвинения даже от маленьких детей против их родителей и с радостью поддерживала жадность и злобу соседей. Все это приводило, без сомнения, к тому, что люди принимали все без вопросов, отворачивались ― это был особый вид дикости.
― Тем не менее, мы не станем делать этого, ― отрезал Данте.
Жест безразличия был единственным ответом Франческо, который взял новый кусок рыбы.
― Наша цель состоит в том, чтобы выяснить обстоятельства конкретных дел, ― продолжал поэт, как был оправдываясь. ― Являются они мятежниками или нет, есть ли за ними другие преступления ― задача для суда Божьего и тех людей, кому поручено этим заниматься. По правде говоря, нас привела к ним болтовня полоумного проповедника, которому верить не следует. Болтовня о вредных бегинах, которая ничего не стоит. И рассказы о немых демонах с голубями когтями, об этом вообще ничего нельзя сказать…
― Как пожелаете, ― презрительно бросил Франческо. ― Это ваше расследование, ваш город и ваше имя поставлены на карту.
Данте чувствовал себя утомленным. У него кружилась голова от выпитого вина. Кроме того, сырость подействовала на его усталые кости. В моральном отношении он чувствовал себя ненамного лучше; он был удручен своим положением и этими гнусными событиями, которые казались почти свершившимся судом над его именем, он был бессилен найти логическую или просто приемлемую связь между своим произведением и преступлениями.
― Мое имя поставлено на карту? ― уточнил он. ― Только потому, что какие-то бессердечные ублюдки посеяли панику, использовав мое произведение. Я должен очистить свое имя, иначе мои руки тоже будут запятнаны кровью?