Джон Сэк - Заговор францисканцев
– И тебе, Лодовико. Рад видеть, что ты здесь по-прежнему библиотекарь. А то я уже повидал столько новых лиц, что подумал, не попал ли в чужое братство!
– Ив моем собрании найдешь перемены, – отозвался библиотекарь.
Конрад оглядел шкафы: они занимали вдвое больше места, чем ему помнилось. Отметил он про себя и словечко «мое» – повсюду здесь преобладало чувство собственности.
Несмотря на сердечную встречу, темное шершавое лицо Лодовико оставалось бесстрастным, как плита мостовой.
Конрад успел позабыть этот плоский нос, тяжелые веки и необычайно высокий лоб, наводивший на мысль, что мать Лодовика сплюснула ему голову, когда он еще лежал у нее во чреве. Его лицо напоминало маску – скорее идею художника о том как должен выглядеть мужчина, чем живого человека. Послушники за глаза звали его Fra Brutto-come-la-Fame – Брат-страшный-как-голод. Кстати, и в трапезной Лодовико не было, так что неудивительно, если за эти шесть лет, пока Конрада не было, библиотекарь заметно располнел.
В сравнении с библиотеками больших монастырей черной братии или университетов, комната над северной аркадой Сакро Конвенто казалась всего лишь пристройкой – да, возможно, ею и была. Она служила не только библиотекой, но и помещением для писцов, и в каждом отделении имелся столик с набором писчих принадлежностей, однако крошечные окошки, еще затемненные частым свинцовым переплетом, пропускали слишком мало света для чтения и переписки книг. Сейчас все столы пустовали. Конрад догадался, что писцы заканчивали работу до полудня, пока утреннее солнце освещало выходящую на восток библиотеку.
Святой Франциск не осуждал знание как таковое, но и не поощрял своих духовных сыновей к учености, полагая ее и ненужной, и опасной: ненужной, потому что братья и без нее могли достичь спасения души, а опасной, поскольку она вела к гордыне ума. Элиас возводил Сакро Конвенто вскоре после кончины святого, когда его желания еще имели вес в глазах последователей. Но даже этот мирской брат не мог предположить, что за двадцать пять лет его орден станет одним из оплотов учености христианского мира.
Да и сам Конрад не удержался от восхищенного вздоха, вспоминая, что преподаватели их ордена считались в Париже, Оксфорде, Кембридже, Болонье и Падуе лучшими умами церкви: Одо Ригальди, Дуне Скотус и Роджер Бэкон соперничали с самыми блестящими монахами-проповедниками – Альбертом Великим и Фомой Аквинским. Разумеется, в переносном смысле. Братья минориты не состязались с братьями проповедниками, несмотря на ревнивые попытки светских богословов стравить два ордена между собой.
Отвлеченный размышлениями, Конрад упустил несколько фраз, произнесенных Лодовико. Библиотекарь взял его под руку и провел вдоль стены, где выстроились в ряд запертые застекленные ящики – возможно, хранилища для самых драгоценных рукописей. За ними, в самом углу, стояли высокие шкафы, также запертые железными замками.
– Ты был ему близким другом, и, я уверен, записка тебя заинтересует, – Лодовико. – нашли ее после смерти фра Лео под его рясой, но составлена она была сразу после того, как раны Христовы запечатлелись на теле нашего благословенного учителя.
На крючках над застекленными ящиками висело несколько пар белых перчаток. Лодовико надел одну и жестом предложил Конраду последовать его примеру. Затем, отперев ящик, вынул изношенный кусок кожи и бережно развернул его на ладонях. Грубый пергамент, десятилетиями соприкасавшийся с кожей Лео, засалился и потемнел. Как видно, прежде чем спрятать на груди, наставник Конрада сложил его вдвое, и теперь на листе виднелась вытертая складка – почти излом.
Библиотекарь бережно повернул лист к Конраду. Это был, в сущности, обрывок шириной в полную страницу, но в длину не больше мужской ладони. Обе стороны были покрыты записями, оставленными несколькими разными руками, красными и черными чернилами. Увидев, что Конрад с трудом разбирает почерки, библиотекарь сам прочел вслух крупные буквы на лицевой стороне:
Да благословит и охранит вас Господь! Да осияет вас Господь ликом своим и да будет к вам милостив! Да обратит Господь к вам лик свой и дарует вам мир!
Конрад узнал Благословение священников из Книги Чисел; эти слова повторял над ним епископ Ассизский, посвящая в сан. Под словами Моисея писавший добавил постскриптум: «Благослови Господь тебя, брат Лео», – подписал благословение греческой буквой «тау», такой высокой, что перекрестье пришлось между букв имени Лео.
Конрад протянул к листу овечьей кожи руку в перчатке:
– Можно?
Библиотекарь переложил обрывок к нему на ладони так нежно, словно возвращал в гнездышко птичье яйцо. Конрад поднес лист к ближайшему окну. На обороте он увидел мелкую запись, в которой узнал руку Лео. Кажется, там был записан хвалебный гимн, возможно, продиктованный секретарю самим святым Франциском.
Свят Господь, единственный наш Бог.
Ты творишь чудеса...
Ты велик, всеблаг,
Ты высшее благо...
Ты есть любовь,
Ты есть мудрость,
Ты есть смирение.
Ты – терпение,
Ты – красота,
Ты – мир душе,
Ты – радость,
Ты – справедливость...
Ты есть вечная жизнь, великий и чудный...
милосердный Спаситель.
Хвала была великолепной и вдохновенной, однако Конрада она разочаровала. Ни намека на видение серафима, вдохновившего сей восторженный порыв. Он снова перевернул лист, и Лодовико указал ему на несколько приписок, сделанных мелкими буквами, но красным цветом. Две коротких фразы под и над «тау» свидетельствовали, что благословение и символ начертаны рукой самого Франциска.
– Должно быть, фра Лео добавил эти примечания позднее, – пояснил библиотекарь.
Почерк наверняка его – еще мельче, чем у его учителя, если такое возможно. Лодовико проследил пальцем более длинную приписку над благословением, сделанную теми же красными чернилами и той же рукой. Не дождавшись отклика Конрада, он сам начал читать через его плечо:
– «Блаженный Франциск за два года до смерти на сорок дней удалился на гору Ла Верна, дабы почтить Блаженную Деву Марию, матерь Божью, и архангела Михаила. И Господь возложил на него свою руку. После видения и слов серафима и запечатления на теле его ран Христовых он сложил хвалу, записанную на обороте этого листа, и записал ее своей рукой, благодаря Господа за милость, ему ниспосланную».
Лодовико взял пергамент из рук Конрада и возвратил на место под стеклом. Конрад, стоя за его спиной, раздумывал о прочитанном, а также и о том, с какой готовностью библиотекарь показал ему записи.
– Довольно странно, не правда ли, брат? – сказал он.
– Что странно, Конрад?
– Хвала. Она написана не той рукой, что благословение Лео, – очевидно, под диктовку, однако тот, кто оставил приписку, утверждает, что это собственноручная запись святого Франциска. Мне приходит в голову, что брат, писавший под его диктовку, – а это, вероятно, был фра Лео, – и брат, оставивший приписки красным, были два разных человека.
Лодовико застыл, склонившись над крышкой ящика, вплотную разглядывая пергамент. Впервые Конраду почудилось движение жизни под маской его лица: углы губ оттянулись книзу, брови чуть сдвинулись – крошечная щель открылась в броне непроницаемости.
Не дав фра Лодовико ответить, Конрад добавил:
– Не подскажешь ли мне, какие еще хроники ордена стоит прочитать?
Возвращение в Сакро Конвенто прошло гладко – пожалуй, слишком гладко, как заметил Конрад два дня спустя в разговоре с донной Джакомой. Они вместе ели суп на кухне ее дома, и он вел отчет о событиях последних дней. Конрад с благодарностью принял и горячую похлебку, и огонь, разведенный в печи, потому что осенние дни уже стали почти такими же холодными, как ночи, а затянутые промасленной кожей окна были слабой защитой от непогоды. Маэстро Роберто только что вставил в окна дополнительные рамы, но Конрад догадывался, что старой женщине нелегко придется зимой, несмотря на пергамент в окнах, ковры на стенах и огонь в очагах.
– Привратник, так надменно встретивший нас с сиором Джакопоне, теперь был донельзя любезен, – говорил Конрад между глотками отвара. – Нет, он мог меня не узнать. Но меня никто из братьев не тревожил и не расспрашивал. Я чувствую себя... как бы это сказать? Невидимкой. Что-то неестественное чудится в том, как со мной обращаются – или, вернее сказать, не обращаются.
– Чепуха, – возразила донна Джакома. – Я уже говорила, зря вы так беспокоитесь, брат. Бонавентура вас не потревожит. А узнали вы что-нибудь о смысле послания Лео? Я ломаю над ним голову с того дня, как вы мне его показали.
– Пока ничего.
Он рассказал ей о записке святого Франческо и добавил:
– Еще я нашел копию письма, которое Элиас разослал всем министрам-провинциалам после смерти нашего учителя. Часть я переписал. – Конрад достал из-за пазухи список с записями. – Даже я вынужден признать, что это прекрасное послание. Слишком длинное, чтобы переписывать его целиком, но я списал ту часть, которую нахожу особенно трогательной, – о видении на Монте Ла Верна: «Я пользуюсь случаем сообщить вам чрезвычайно радостную весть – новое чудо. Никто доселе не слыхивал о подобных чудных знаках, кроме данных Сыну Божию, каковой есть Господь наш Христос. Ибо задолго до кончины наш брат и отец Франческо получил знаки распятия; он носил на теле пять ран – истинных стигматов Христа. Ладони и ступни его были как бы пронзены гвоздями, и эти раны не заживали и остались черными, словно гвозди. И бок был разверзнут как бы копьем и постоянно кровоточил. Пока душа его оставалась в теле, он был видом некрасив и наружности непривлекательной, и ни один из членов его тела не был избавлен от немочи... Ныне же, когда он умер, он прекрасен видом и сияет с чудной яркостью, и всякий, кто его увидит, возрадуется...»
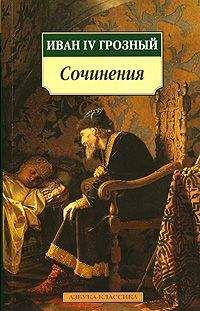

![Владлен Бахнов - Иван Васильевич меняет профессию [альбом]](/uploads/posts/books/24676/24676.jpg)

