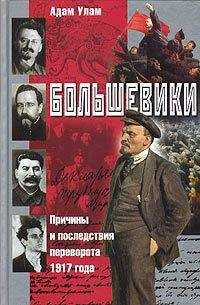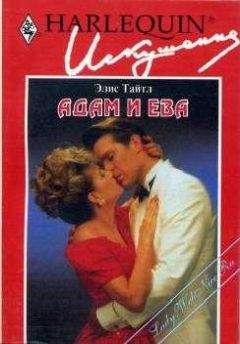Марк Миллз - Дикий сад
— Адам не любит, когда кто-то говорит, что мы похожи. Считает себя красавчиком — и высокий, и смазливый.
— Он и впрямь выше, — сказал Маурицио.
— Это я сутулюсь. — В подтверждение своих слов Гарри подтянулся и выпрямил спину.
Маурицио состроил скептическую гримасу.
— Ладно, согласен. К тому ж у меня еще и ноги кривые. Но зато не такие тощие, как у него. Его вы в таких шортах не увидите.
— Не стану спорить, — парировал Адам. — Я бы в них даже в гроб не лег.
Все рассмеялись, и дальше настроение уже не менялось. Разговор катился легко, пока синьора Доччи не поинтересовалась у Гарри, какое впечатление произвела на него Флоренция.
— Она меня разочаровала.
— Разочаровала?
— Честно говоря, да.
— Вообще-то честности от тебя никто не требует, — заметил Адам.
Гарри пропустил реплику мимо ушей.
— Сам не знаю, чего я ожидал. Наверное, чего-то более романтического. Город же оказался таким… — он нахмурился, подыскивая нужное слово, — таким маскулинным.
— Маскулинным? — удивленно переспросила Кьяра.
— Крупным, дерзким, наглым… жестким. Взять, к примеру, тот собор…
— Duomo, — сухо подсказал Адам, что можно было бы перевести как «заткнись, да поскорее».
— Он самый. Будем откровенны, при виде его рука вовсе не тянется к карандашу, а воображение не рождает поэтические строчки.
Адам заметил скользнувшую по губам Маурицио улыбку. Синьора Доччи и Кьяра приняли боевую позу.
— Многие поэты посвящали стихи Duomo, — возразила Кьяра.
— Стихи? Скорее, стишки, верно?
Маурицио рассмеялся, за что удостоился укоризненного взгляда матери.
— Я понимаю, что имеет в виду Гарри, — сказал он. — Флоренция не Сиена, не Падуя и не Венеция. Она куда более крепкая и грубая. Разочароваться, увидев ее впервые, совсем не трудно.
К несчастью, столь пренебрежительная оценка великого города спровоцировала Кьяру выступить в защиту непревзойденного культурного наследия Флоренции. На это Гарри ответил с еще меньшей дипломатичностью, заявив, что, по его мнению, флорентийское искусство сильно переоценено и не дотягивает до высших стандартов.
— Вот как? — изумилась синьора Доччи.
— Да.
На взгляд Гарри, эпоха Ренессанса знаменовала собой низшую точку развития западного искусства. Как и в случае с большинством проповедуемых Гарри теорий, оригинальность гипотезы дополнялась страстной убежденностью в своей правоте, которая и позволяла если не закрыть полностью, то, по крайней мере, замаскировать зияющие пробелы его аргументации.
Гарри не отрицал, что художники и скульпторы того времени сделали большой шаг в плане репрезентативного реализма, но ставил под сомнение прогрессивность этого шага. Означал ли переход к реализму также и продвижение к лучшему искусству? Не было ли средневековое искусство, при всех его искажениях, диспропорциях и стилизациях, более правдивым уже потому, что не пыталось обмануть зрителя? И не было ли искусство Ренессанса в чем-то сродни ловкости иллюзиониста? И разве иллюзия не исчерпала себя почти полностью? Умение создавать ощущение глубины на плоском полотне или добиваться почти физической точности в изображении человеческой фигуры в какой-то момент вышло для художника на первый план, приобрело большее значение, чем изображаемый объект, та высшая, святая цель, служить которой должно произведение искусства. Все то, что он видел в музеях и галереях Флоренции — за редким исключением, — оставило его равнодушным. Одним из исключений Гарри назвал статую Давида в Академии.
Ее он просто возненавидел.
Громадный памятник сентиментальному любованию человека самим собой, триумф формы над содержанием, стиля над сущностью — так охарактеризовал Гарри признанный шедевр Микеланджело. Где ужас юного пастушка, вышедшего сразиться один на один с вражеским великаном? Единственное свидетельство оного Гарри обнаружил между ногами Давида. Страх, как холод, делает то же самое с вашим пенисом, объяснил он, обращаясь к дамам. Нет, этот «узкобедрый Нарцисс» более похож на «какого-нибудь слабоумного подростка, прихорашивающегося перед зеркалом к намечающейся вечеринке».
Как и рассчитывал Гарри, его оценки вызвали бурные дебаты. Мало что доставляло ему такое же удовольствие, как интеллектуальная стычка. Сравниться с ней могло разве что красное вино, которое, к сожалению, изливалось в стаканы на всем протяжении ланча. Спор и вино — потенциально взрывоопасная комбинация.
Взрыва удалось избежать только потому, что при первых признаках агрессивности Адам, внимательно наблюдавший за развитием ситуации, вытащил брата из-за стола, объяснив, что хочет показать ему сад.
Гарри не стал упираться и только спросил, можно ли взять с собой стакан. Никто не возражал.
Спускаясь по тропинке, Адам поймал себя на том, что не испытывает ставшего привычным волнения. Сад одолел его еще до того, как размышления о смерти Эмилио вытеснили все прочие мысли. Делиться с Гарри своими гипотезами он не стал, упомянув лишь, что Федерико Доччи сохранил память о своей жене в образе Флоры, богини цветов.
Едва миновав брешь в тисовом заслоне, Гарри остановился. Перед ними мрачным тоннелем вытянулась аллея деревьев.
— Веселенькое местечко.
Больше Гарри не сказал ничего, пока они не вышли на открытое пространство у подножия амфитеатра. Он посмотрел на статую Флоры, на нависшую над ней триумфальную арку, потом повернулся, окинул взглядом долину и сжимающие ее с двух сторон деревья.
— Что думаешь? — спросил Адам.
— Красиво. Но немного жутковато.
— Что еще?
— Проверяешь?
— Нет.
Он не собирался устраивать Гарри проверку, но хотел посмотреть на все его глазами, оценить свежим взглядом. Может быть, что-то обратит на себя внимание.
— Мне нужна помощь.
— От меня?
— Теперь ты понимаешь, до какого края я дошел.
Гарри прочитал вслух надпись на триумфальной арке.
— Не Флора — Фьоре, — поправил его Адам. — На итальянском — цветок.
— Как и Флора.
— Точно.
— А эта статуя? Она?
— Это богиня.
— Сходство есть?
— Неизвестно. Портретов Флоры не сохранилось. Думаю, что есть.
Это чувство зародилось несколько дней назад и постепенно окрепло, превратившись почти в уверенность. Лицо не соответствовало образцу своего времени — с чистыми, мягкими, словно отполированными чертами идеала конца шестнадцатого века. Рот слишком выразительный, подбородок слишком тяжелый, нос слишком длинный. Она была слишком… настоящей.
Поднявшись по склону, они оказались на втором уровне. Гарри сунул Адаму стакан и прикурил две сигареты. Еще раз оглядел статую.
— Не в моем вкусе, — изрек он наконец.
— Я так и понял.
— Но кое-что в ней есть.
— Думаешь?
— Угу.
— Что?
— Горячая дамочка.
— Горячая?
— Да. Сексуально озабоченная. Да ты посмотри сам.
Гарри провел ладонью по ноге статуи, как сделала и Антонелла при их первой встрече. Но только он не остановился на бедре — рука скользнула дальше, между ног Флоры.
— Так и есть, уже мокрая.
— Господи, Гарри, что ты такое говоришь.
— А ты приглядись. Видишь, как выгнулась? Изображает скромность, но только изображает.
— Это классическая поза.
— Ну да, классическая, — ухмыльнулся Гарри. — Знаешь, я бы не отказался поймать такой взгляд.
Адам посмотрел в лицо богине — слегка припухлые губы, широко расставленные, чуть раскосые глаза, устремленные…
Куда?
Адам обернулся. Снова посмотрел на Флору. Взгляд ее уходил вниз по склону и пересекал долину в направлении леса. Могучие деревья и густые заросли лавра стояли там непроходимой стеной, но Адам уже догадывался, что находится за ними.
— Стой здесь.
Спускаясь второпях по склону, он оступился и болезненно подвернул ногу, но все же нашел силы подняться и повернулся к Гарри.
— Куда она смотрит?
— Что?
— Скажи, куда она смотрит. Мне нужно точное направление.
Получив указание, Адам побрел дальше. В области лодыжки уже появилась боль. Дойдя до деревьев, он снова оглянулся.
— Здесь?
— Выше! — крикнул Гарри. — Еще немного. Вот так. Нет, чуточку назад. Не знаю… Так. Да. Так.
Адам стащил рубашку и перекинул ее через ближайшую ветку. Потом, взяв в качестве ориентира высокое дерево, стоящее на прямой линии со статуей и рубашкой, пошел к нему через заросли лавра. Идти было тяжело, словно против сильного течения.
Возле дерева он остановился и оглянулся. Рубашка едва виднелась вдалеке.
Чтобы не сбиться, требовалась еще одна метка. Пришлось снять и повесить на ветку брюки. Надевая туфли, Адам заметил, что лодыжка начала распухать.
Отметив следующее дерево, он побрел к нему. Кусты царапали голую кожу. Пару раз что-то сильно — ему даже пришлось остановиться — ударило в грудь и бедро. Но и замирая от боли, он не спускал глаз с ориентира.