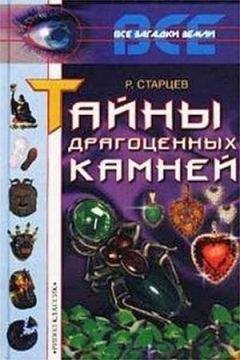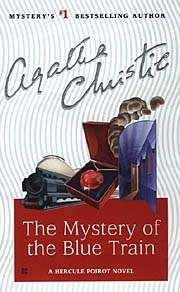Тобиас Хилл - Любовь к камням
Камни ведут тебя по жизни, подобно пагубному пристрастию. Начав, остановиться трудно. Даже если места, куда они заводят, тебе не нравятся. Иногда достаточно только одного камня. Например, поверхность рубина Тимура исписана именами всех его владельцев до последнего. Первый Акбар-шах, потом чередой остальные: Джехангир-шах; Салиль Ойран-шах; Аламгир-шах; Бадшах Газу Мухаммед Фарух Сияр; Ахмед Шар Дури-и-Дуран. Это лучший рубин среди 25 000 самоцветов Царя Царей.
Или рубин Черного Принца, уродливый шар. Можно проследить его путь по остовам ныне пустых корон до самой английской Реформации. Камень просверлен и заткнут в Азии прежде, чем был вставлен в западную корону. Более того. Его химическая структура — шпинель. Рубин-балас состоит из алюминия, кислорода, магния. Очень высокая температура, тысяча лет темноты… а в конце неизбежный результат. Ничего не остается, кроме камней.
Я просыпаюсь одна, среди ночи, и задаюсь вопросом, то ли это самое, что я ищу.
Я открываю глаза. В каменном доме тихо. Не помню, что разбудило меня, но словно бы какой-то звук. Я жду, чтобы он раздался снова, и он раздается, краткий вскрик.
Его можно принять за лисий или заячий, такие в нем вожделение и исступленность, однако я знаю, что он человеческий. За ним следует ритм движений. Едва слышный сквозь каменные стены.
Я быстро сбрасываю с себя остатки сна. В подслушивании занятий любовью есть чувство опасности. Глаза и уши напрягаются в темноте еще до того, как я начинаю толком соображать. Вскрик раздается снова, и я знаю наверняка, что он женский. Отвращения у меня это пока не вызывает. В этом есть какая-то привлекательность. Я — замершая, неслышная — прислушиваюсь.
Сажусь. У меня обострилось даже обоняние. Дом фон Глётт пахнет известняком, как церковный склеп. Слабее чувствуется запах соли, камфары, скипидара. И еще слабее — кислый запах старости и утраты.
В дешевом отеле звуки секса — обыденная вещь, но в отшельнической тишине дома Глётт они неуместны. На миг представляю себе старуху с гигантом Хасаном в некоей сложной позе соития и отгоняю это видение. В уголках губ у меня дрожит улыбка. Чем дольше длятся звуки, тем комичнее становится.
А потом они наскучивают. То, что я слышу, превращается в простой ритм частей тела, тяжелого дыхания, мышц, работающих навстречу друг другу. Монотонный, как приступ кашля. Отбрасываю простыню и стою голая в прохладной темноте, прислушиваясь. Трудно разобрать, откуда доносится звук. Вокруг меня тусклые очертания кровати, письменного стола, стула, гардероба из древесины благовонного кедра.
Я беру стул, переворачиваю и с силой тычу ножками в потолок. Всего три раза. Звук замирает. Если бы я могла извиниться, то, пожалуй, извинилась бы, но не могу. Возможности общения с помощью стула исчерпаны полностью.
Я ставлю его, сажусь за стол и включаю свет. На столе лежат мои часики и записная книжка. Черная, с бурыми пятнами, перехваченная резинкой. Растолстевшая от пользования, словно слова внутри оказывают собственное давление. В чемодане у меня еще девять таких же, завернутых в пакет. Одна с еще чистыми страницами. В течение последних пяти лет они извещают меня, откуда я приехала, сообщают, куда поеду. Сейчас три часа ночи, и я чувствую себя одинокой, как никогда. Достаю из чемодана ручку, принимаюсь писать, а через некоторое время кладу голову на стол и засыпаю.
Солнце будит меня, пригревая волосы и сгиб руки. Открываю глаза и вижу на столе записную книжку — на черной жесткой обложке потек слюны. Вытираю обложку начисто, отодвигаю стул. Отбрасываю волосы назад и растираю затекшие плечи.
Свет со двора заливает комнату. Я чувствую себя окутанной жарой, сонной и раздражительной, как девчонка. Чтобы окончательно разогнать сон, достаю то, что понадобится для работы. Чемодан не распаковываю, потому что долго здесь задерживаться не собираюсь.
Беру лупу, представляющую собой увеличительное стекло ювелира. Последний рубин. Доллары, единственную оставшуюся ценность, кроме рубина и купленного талисмана. Ручка с записной книжкой лежат на столе, беру их тоже. Часики. Они отстают. Я проспала, но я здесь, в конце концов, не ради работы, только ради сведений. «„Три брата“ некогда побывали в руках моего отца».
Вчерашняя одежда лежит на полу, я облачаюсь в нее, рубашку и хорошие джинсы цветом темнее индиго. Хасан играет на своей деревянной флейте; одеваясь, я вижу его во дворе. Протираю на запыленном стекле чистый круг. Он сидит у стены, в десяти футах, спиной ко мне, склонив голову набок. Мне видны его зачесанные за ухо волосы, кожа, облегающая выпуклость черепа. Представляю, каково было бы поцеловать его туда. Он красивый мужчина, воплощение мужчины, но я не ищу мужчин.
На внутренней стороне дверцы гардероба зеркало. Я смотрю на отражение своей шеи, ямочку, под которой некогда висела цепочка. Теперь никаких украшений у меня нет. Я давно не носила их для удовольствия. Словно меня ничто не может устроить, кроме «Братьев». Тем не менее в своем дорожном облачении чувствую себя как бы не совсем одетой. В пути люди знакомятся, зная, что больше не увидятся никогда. И мне это нравится. Все просто, на дружбу или вражду времени нет. Возвращаюсь к чемодану. Внутри расческа, туалетные принадлежности, минимум косметики. Перед выходом из комнаты расчесываю волосы, пока они не начинают блестеть.
В коридоре пахнет кофе. В восточной стене есть запыленные ниши, и кто-то поставил в одну из них цветы — две крохотные водяные лилии в чашке с голубой каемкой. Сделано это так заботливо, и заботливость эта так неожиданна, что мне становится стыдно. Я давно уже не делала ни для кого ничего подобного, правда, не люблю срезанные цветы, они кажутся мне неживыми. Сворачиваю налево по коридору к комнате Глётт.
В конце коридора лестница, ведущая на нижний этаж. Ее здесь не должно быть. Я пошла не в ту сторону, и это меня удивляет. Умение ориентироваться у меня неплохое, но в доме Глётт я заблудилась. Что-то в этих низких белых коридорах, малочисленных окнах, отсутствии света напоминает подземелье.
Я спускаюсь по лестнице и чувствую, как воздух начинает меняться. Здесь влажное тепло и слабый запах разогретой паром пластмассы. У меня он ассоциируется с китайской едой и турецкими банями, у Глётт, мне кажется, может быть и то, и другое. Первые две двери, к которым подхожу, заперты, света под ними нет. Третья, побольше их, распахнута настежь.
По кафельному полу тянутся влажные следы ног. Включаю свет и смотрю на сауну и бассейн немки. Там никого нет, но вода еще не успокоилась, плещется о зеленые кафельные плитки. Из коридора доносится непринужденный смех молодой женщины. Направляюсь туда. В конце его двустворчатая дверь, и я вхожу.
Это кухня, длинная, высокая, уютная. Место как для приготовления еды, так и для поглощения ее. В грязные окна между балками льются широкие потоки света. Здесь много дорогого дерева, кресла на колесиках и четыре массивных поцарапанных стола. За ближайшим завтракает юная пара. Оба белокурые, загорелые, холеные, как тот надушенный человек в пиджаке от Армани. Красивы и чем-то похожи, могут быть любовниками или родственниками. Они в купальных костюмах. На плечах у девушки еще блестят капли воды. Парень поднимает на меня взгляд и улыбается. У него волчьи зубы.
— Доброе утро! Вы, должно быть, та самая приставленная к камням девушка.
— Приставленная к камням девушка?
У парня сильный, явно немецкий акцент.
— Прошу прощения, я не хотел вас обидеть. Может, вы предпочли бы, чтобы я назвал вас приставленной к камням дамой.
— Нет. Я…
— Но вы Кэтрин Стерн, да?
— Да.
— Ну, разумеется. И Ева предоставила вам здесь жилье, чтобы вы работали с камнями.
Губы его теперь сжаты. Он все еще улыбается. В его глазах есть что-то внушающее беспокойство. Ловлю себя на том, что отвожу от них взгляд. Из дальнего угла кухни смотрят две посудомоечные машины — круглые черные глаза на квадратном белом лице.
— Вы определенно голодны. Присоединяйтесь к нам.
— У нас яйца, ветчина и кофе.
В голосе девушки слышится смешок, словно она сказала что-то забавное. Это пышущая здоровьем красивая блондинка-немка. Ощущаю укол сильной женской зависти. Она придвигает мне свою тарелку:
— Вот, пожалуйста. Ешьте, я уже сыта.
— Может, она не ест ветчины, — говорит парень. Девушка обращает на меня взгляд.
— Едите, так ведь?
Я пожимаю плечами:
— Ем все. Ветчину люблю.
Парень наливает мне кофе в чашку из прозрачного стекла. Девушка смотрит, как я ем. Они не представились. Рядом с тарелкой парня лежат кисет, курительная бумага и зажигалка «Ронсон». Он быстро, ловко свертывает самокрутку, прикуривает, откидывается назад. Я улавливаю от его пальцев легкие запахи парафина, никотина и пива. Вечерние запахи. Удивляюсь, почему чувствую себя не допущенной туда, куда меня только что пригласили.
— Так. Вы уже видели камни?