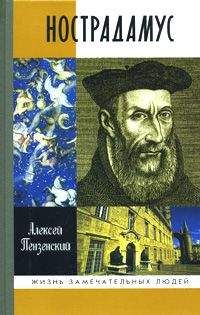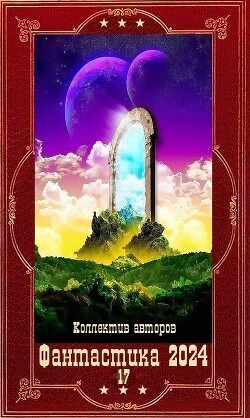Шаги во тьме - Пензенский Александр Михайлович
– Не нужно его искать! Даже если он и правда уже снял деньги со счета, за письмом он может явиться. Узнает он, что осталось еще четыре сотни, и непременно и их пожелает заполучить! И напишет тетке! Она нас, конечно же, не известит – вы же видели, она племянника не выдаст. Поэтому нам надо срочно уведомить почтмейстера, чтобы все письма на ее имя вскрывали и проверяли, не от него ли! Скорее, нам снова нужен извозчик! – И он кинулся было к вокзалу, но Филиппов ухватил его за рукав.
– Мысль вас, конечно, посетила светлая, жалко только, что действия оказались еще быстрее. Письмо наша Алена Степановна в Париж отправила только вчера. Можно было не скакать из поезда, рискуя шею свернуть, а просто передать вашу просьбу начальнику почты завтра из Москвы по телефонным или телеграфным проводам. А заодно следует отправить в парижскую полицию приметы Прилуцкого, пусть наши французские друзья выделят парочку ажанов для дежурства в банке и на почтамте. А мы с вами идемте в вокзал. Сперва пошлем телеграмму на станцию в Ярцево – пускай с поезда снимут мой саквояж и перчатки и передадут в буфет фройляйн Марте. А мы с вами будем ждать следующий поезд в вокзальной ресторации. И очень хочется, чтобы у них имелся приличный коньяк, голубчик.
«Дорогая моя тетушка Алена, как здравствуете? Надеюсь, все у вас хорошо? Почечная отступила?
А у нас уж вовсю осень, но московская, мягкая, теплая – хоть и льет почти каждую ночь, но наутро уже солнце, а к обеду, почитай, никаких луж не остается, разве что там, где дворники лодыри. В хороших домах таких не держат, а вот у меня, признаться, как раз такой и служит. Ну да мы сами народ привычный.
Вы вот пишете, что я напрасно оставил учебу, что отец этого бы не желал. Может, и не желал, да спросить, увы, не у кого. Скажу по совести, не могу прекратить думать о том, что все его желания теперь, лишившись хозяина, остались совершенно неважными, как реализованные, так и несбывшиеся. И каждый день по многу раз пускаюсь я в этот спор то ли с ним, то ли с собой о том, чего ради живем мы? Для чего рождаемся на свет и копошимся здесь, стремимся к чему-то, ежели исход у всех один? Знаю, вы, тетушка, человек глубоко верующий, а я вот неверием своим и той надежды себя лишил, что после смерти что-то еще существует. Я ведь, вот потеха, после тятенькиной кончины, в те две недели, что у вас обитал, каждый вечер не просто гулять ходил – я к попу вашему ходил, к отцу Александру. Все слушал его, все пытался проникнуться, прильнуть – и все напрасно. Не принимает душа веру на веру. Простите, скаламбурил неловко, да уж вымарывать не стану. Видно, идти надо было в семинарию, а не в технологический, чтоб науки верить не мешали.
Простите, тетушка, не стану больше про это. Так и вижу, как вы строки эти читаете и плачете да шалью глаза утираете. Так не печальтесь, есть у меня, чем вас обрадовать, не думайте, что я тут лодырем в Москве просиживаю, брюки последние протираю. Устроился я на службу к одному коммерсанту, очень деятельному. Всех идей его описывать не стану, к чему вам эта скукотища, расскажу лишь, что взял он меня в себе в секретари, жалованье определил превосходное, так что папенькины капиталы пускай лежат и множатся пока. А вы, чем рыдать над моими поруганиями веры, лучше поставьте в ближайшее воскресенье свечку за успех всех начинаний Андрея Серафимовича Антонова, моего нового патрона. Мы с ним в столицу по делам собираемся, так пусть уж помогут нам высшие силы.
Кланяйтесь от меня соседям, скажите, что помню их и часто в мыслях своих обращаюсь к тем дням, когда все мы были вместе, все рядом, и из забот было лишь успеть с реки к чаю.
Крепко обнимаю, ваш любящий племянник Саша».
Владимир Гаврилович отложил последнее письмо Прилуцкого в стопку уже перечитанных ранее. Всего писем было семнадцать штук, и все оказались похожи одно на другое, будто написаны по «письмовнику»: приступ, в котором непременно упоминалась тетушкина подагра, длинный абзац про терзания Александра Алексеевича из-за смерти отца, а завершалось послание сообщением последних сведений о происходящем сейчас с отпускным студентом. В финале объятья, то крепкие, то нежные. Складывалось ощущение, что письма тетке стали для Прилуцкого этакой успокоительной терапией, помогающей смириться с утратой.
Письма эти Владимир Гаврилович перечитывал несколько раз на дню, лишь бы как-то разнообразить очередное ожидание. Деньги Прилуцкий с парижского счета действительно успел снять. А пока по каналам министерства внутренних дел сносились с местной полицией, пока убеждали Сюрте Женераль в важности дела, письмо с почтамта тоже успело найти своего адресата. Оставалось или ждать известий от смоленского почтмейстера, или надеяться, что какой-нибудь внимательный французский блюститель порядка опознает в случайном прохожем беглого студента. Аркадий Францевич даже предложил Филиппову заключить пари, какое событие случится раньше, но на наблюдательность парижских полицейских никто ставить не захотел. И оба оказались правы.
Ровно через десять дней после поездки в Смоленск в кабинете Филиппова раздался междугородний звонок. Чеканный и слишком радостный голос, который почему-то всегда появляется у провинциальных чиновников при общении со столичным начальством, доложил Владимиру Гавриловичу, что на имя мещанки Козиной Алены Степановны сегодня утром получено письмо из Парижа, от Прилуцкого А. А., и продиктовал совсем уж короткое сообщение:
«Тетушка, деньги получил, спасибо. Оставшиеся шли тоже, в тот же банк. Напиши, как вышлешь, на почтамт, на мое имя. Твой Саша».
Филиппов еще раз пробежал глазами только что записанные под диктовку строчки, покрутил левый ус, посмотрел на настенный календарь. Вторник. «Норд-Экспресс» из Петербурга отправляется в Париж по средам и субботам. «Сибирский экспресс» из Москвы ходит только по пятницам. То есть если завтра выехать из Петербурга, то письмо смоленской тетушки можно будет опередить на два дня!
Поблагодарив обладателя верноподданнического баритона, Владимир Гаврилович повесил рожок, удовлетворенно потер руки и даже не удержался от радостного восклицания:
– Попался, голубчик!
До Рождества было еще довольно далеко, однако вечерний Париж окатил вышедшего из гостиницы Филиппова таким количеством гама, света и иллюминации, что казалось, словно праздник в самом разгаре. Публика на улицах центральной части города была весела, молода, улыбчива и очень шумна. Целые компании перемещались от одного кафе-шантана до другого, время от времени добавляя к электрической энергии уличных фонарей разряды добродушного хохота, звон бутылок и хлопанье пробок. При этом, к величайшему удивлению Владимира Гавриловича, полицейские, дежурившие на улицах, не только не делали гуляющим замечаний, но даже будто бы одобрительно улыбались.
Поддавшись витающему в воздухе легкомысленному настроению, русский гость занял маленький столик на улице в одном из ресторанчиков на Рю Монторгей, заказал бутылку анжуйского и с полчаса наблюдал за царящим вокруг весельем. Поймал себя на мысли, что в России подобное поведение как-то резко заканчивалось вместе со студенчеством и жизнь взрослая почти сразу прятала веселье внутрь заведений, не выплескивая на улицы. То ли климат дурной? То ли жизнь иная? Но парижане показались Филиппову какими-то более свободными, беспечными. Почему-то сразу сделалось грустно. Владимир Гаврилович тут же поправил себя – он пил вино на одной из самых разгульных улиц французской столицы в фешенебельном районе. Поди, на окраинах сейчас темно так же, как у нас за Обводным каналом, и из прохожих только сквозняки да крысы. Но веселее от этого внутреннего диалога не стало. Посмотрев на оставшееся в бутылке вино, Филиппов подумал, а не забрать ли его в номер, но как-то сразу расхотелось и пить, и наблюдать за чужой радостью. К тому же завтра требовалось иметь голову ясную. Потому, заказав лишь сандвич с ветчиной, моцареллой и помидорами между двумя ноздреватыми кусками белого хлеба (и черт его знает, откуда у них в ноябре свежие помидоры), Владимир Гаврилович попросил завернуть еду с собой и вместо намеченной еще в Петербурге прогулки к Эйфелевой башне направился в номер. Там съел купленный бутерброд под черный чай и завалился спать.