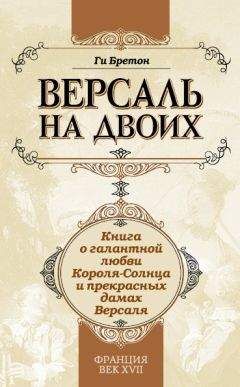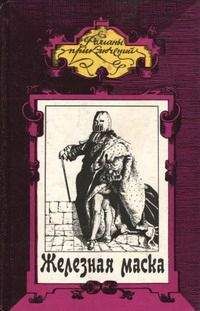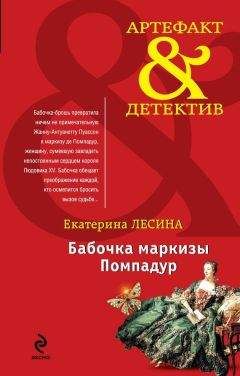Ольга Михайлова - Плоскость морали
Хлопнула дверь, и на пороге, прервав его мысли, показался Аристарх Деветилевич. Заметив Дибича, он скорчил мутную рожу, плюхнулся рядом на скамью и спросил портсигар. Тяжело затянулся, и Дибич заметил, что папироса дрожит в руке Аристарха.
— А ты давно его знаешь? — Дибич без уточнений понял, что тот спрашивает о его знакомстве с Нальяновым, ибо в гостиной Нальянов обращался преимущественно к нему.
Дипломат должен уметь видеть человека, не глядя на него, и смотреть на человека, не видя его, всегда знать, что спросить, когда не знаешь, что ответить. Дибич пожал плечами и, ничего не уточняя, дипломатично перевёл разговор.
— Тебя, я вижу, он бесит?
— А тебя нет? Гадина… Понять не могу, как он это делает? Собой, конечно, приметный, но чтобы так… И ничего ведь, заметь, не делает, — Деветилевич искренне недоумевал, — а все бабы с ума сходят…
Дибич тоже заметил это. В присутствии женщин вокруг Нальянова, казалось, точно танцевали мелкие бесенята, взгляд его завораживал, голос увлекал в неведомую бездну. Но сам Нальянов в коловращении этого любовного приворота казался подлинно бесстрастным. Он ничего не делал… или… Дибичу вспомнилось насмешливо-проникновенное: «Ревнуете?» Или все же делал?
Но с Деветилевичем Дибич откровенен не был никогда, и сейчас просто притворился, что не понял его, безразличным тоном проронив:
— Да, полно. Обычный бонвиван. Однако, неглуп, этого не отнять.
Деветилевич зло поджал губы.
— Гадина он. Бес-искуситель. Она же голову потеряла, глаз с него не сводит.
Дибич давно знал о финансовых проблемах Деветилевича, а от Левашова неоднократно слышал злобную ругань о домогательствах Аристарха к его кузине Климентьевой. Деветилевичу, по его словам, светила долговая яма. Павлуша обмолвился тогда, что Елене по достижении двадцати одного года предстоит унаследовать состояние отца. Познакомившись с Климентьевой в Варшаве и наблюдая за ней последние пару дней, Дибич понял, что Аристарх подлинно рискует потерей двухсот тысяч: девица не замечала кузена. Но сейчас, несмотря на гадкие намёки Левашова, Дибичу показалось, что Аристарх подлинно неравнодушен к Елене: он не просто бесился, но въявь ревновал — но не к нему, а к Нальянову.
Дипломат снова предпочёл сделать вид, что не понял Аристарха.
— Голову потеряла… Ты о ком?
Деветилевич опомнился.
— Неважно. Все они одинаковы. Пялятся на него…
— Ну, не все. И Елизавета не особо от него, по-моему, в восторге, и средняя Шевандина тоже. А младшую, Анну, он вообще, кажется, бесит.
— Как бы ни так, — зло огрызнулся Аристарх. — Бабское притворство. Всё они к нему неровно дышат. Ну, может осоргинская Лизавета дурью не больна, и то, потому что понимает, что никому, включая Лёнечку, не нужна.
— Ну, шутишь, — провоцируя Деветилевича, усмехнулся Дибич, — он разве что Климентьевой нравится.
На скулах Деветилевича заходили желваки.
— Гадина… — словарный запас Аристарха в моменты озлобления богатством не отличался, Дибич давно заметил это и сейчас ничуть не удивился.
Дверь скрипнула в петлях, на крыльце в ночи возник Павлик Левашов, в криво падающем оконном свете больше чем когда-либо похожий на перевёрнутую пентаграмму, лицо его уподоблялось козлиной морде, но он вступил в тень и всё пропало. Левашов плюхнулся на скамью рядом с ними.
— Как же осточертели эти реформаторы, — тихо и зло бросил он, — Лариоша поминутно теряет очки и забывает застегнуть пуговицы на ширинке, Лаврушка жрёт, едва дорывается до стола, как Пантагрюэль, Лёнечка ради десяти тысяч на лягушке жениться согласился, Серёженька два и два с трудом после университета складывает, а все туда же — строить новый мир!
Деветилевич кивнул.
— Да уж, всемирные устроители человечества…
Дверь снова хлопнула. Сергей Осоргин никогда не придерживал за собой двери. Сейчас он, едва разглядев в темноте Деветилевича, обратился прямо к нему, игнорируя остальных:
— А что, этот барин, ты говоришь, смельчак? Умеет рисковать жизнью?
Левашов скривил губы, но промолчал. Деветилевич, тоже немного поморщившись, ответил Осоргину:
— Скорее, я сказал бы, что ему нравится убивать, Серж, — Деветилевич загасил сигарету, — хоть сам он никогда никого не вызывает. Но несколько раз, будучи вызван, хладнокровно подставлял лоб, а потом, когда противник промахивался… Один раз, я сам видел… — Деветилевич с трудом сглотнул слюну, — он как раз говорил секунданту, чтоб готовил лошадей. Тут и пальнул, не глядя. Попал в сердце. У него дурная репутация. — Тут Деветилевич усмехнулся. — Да ты, чай, не вызвать ли его решил? Не глупи. — В голосе Аристарха мелькнула нескрываемая насмешка.
Осоргин промолчал.
Дибич решил, что делать ему тут нечего. Он поднялся, дружески распрощался с приятелями, и направился к себе на Троицкую. Проходя мимо чалокаевского дома, остановился. Его удивило, что в окнах не было света: спальня Нальянова с тяжёлыми тёмно-зелёными портьерами — не была освещена, горели лишь розовые окна — явно женского будуара. Однако загадка разрешилась быстро. Из темной аллеи у дома показались две тени. Нальянова Дибич узнал сразу. Напрягся, рассматривая высокую женщину в чёрном платье, и тут чертыхнулся про себя. С Нальяновым шёл монах Агафангел. Видимо, Нальянов нагнал его дорогой.
Дибич удивился ещё и тому, что оба явно никуда не торопились, шли не таясь, то и дело останавливаясь, оживлённо жестикулируя. Их силуэты отбрасывали в свете фонарей длинные тени на цветочные клумбы.
Дибич прислушался. Говорил Нальянов.
— На первый взгляд, Бог превосходит всё бесконечное, а наш разум может познать Бога, следовательно, он может познавать и бесконечное. Но это — иллюзия, отец Агафангел. Бог бесконечен как форма, не ограниченная материей, а в вещах материальных бесконечным называется то, что не имеет ограничения. Форма познаётся, а материя без формы не познаётся, стало быть, материальное бесконечное не познаётся. Формальное бесконечное, Бог, сам по себе познаваем, но для нас Он непознаваем, — вследствие ущербности нашего разума, приспособленного к познанию материального. И потому мы можем познавать Бога только через Его проявления, но не можем лицезреть Бога в Его сущности.
В ночи послышался голос Агафангела.
— Но мы способны к познанию различий и количества, количество же, например, чисел, бесконечно. Вот вам и возможность познавать бесконечное.
— Нет, — серьёзно возразил Нальянов. — Бесконечное не может познаваться, если не перечислены все его части, а это невозможно. Ведь после восприятия максимального количества бесконечного можно всегда принять и нечто сверх него. И если даже признать новомодную придурь, что разум есть бесконечная способность к познанию, то надо возразить, что способность пропорциональна своему объекту, и разум должен так соотносился с бесконечным, как соотносится с ним его объект. Но среди материальных вещей не обнаруживается бесконечного, и поэтому разум никогда не может помыслить столь многое, чтобы он не мог помыслить затем ещё большее. Таким образом, наш разум может познавать бесконечность только потенциально.
Бартенев засмеялся и поднял ладони вверх.
— Сдаюсь. Если такой схоласт начнёт рассуждать…
Нальянов усмехнулся, авторитетно поднял палец вверх и сказал:
— В давние времена папа Бонифаций Восьмой объявил войну могущественному роду Колонна, жившему в Пенестрино. Бонифацию не удалось взять его силой, и тогда он призвал францисканского монаха Гвидо да Монтефельтро, обещал открыть ему двери рая и отпустить грехи, если тот даст совет, как победить Колонну. Тот дал лукавую рекомендацию обещать Колонне полное прощение, если они уступят Пенестрино, потом сровнять замок с землёй, а после — изгнать род из Рима. Папа так и поступил. У Данте лукавый францисканец попадает в ад. Чёрный херувим счёл, что, несмотря на обещанный папой рай, он должен получить, по лукавому совету своему, ад, и говорит ему: «Forse tu non pensavi, ch'io loico fossi?», дескать, «А ты не думал, что я тоже логик?» — Нальянов усмехнулся, — вот и я тоже всегда боюсь услышать это от чёрта.
— С чего бы? — усмехнулся монах. — Вы же ничего не проповедуете, не интересуетесь преступлениями, не волочитесь за женщинами и не верите в народное счастье. Лукавых советов тоже не даёте. С чего бы вам беспокоится?
— Из-за недостатка логики, отец Агафангел.
Бартенев повернулся к нему, долго смотрел в лицо, потом странно смущаясь и отворотив глаза от собеседника, точно про себя пробормотал: «Мне померещилось, что у вас совсем не логики недостаток».
— Конечно, грехи мои явны, — Нальянов рассмеялся. — Окромя гордыни бесовской, грешен всем набором барским — от безделья и лени до уныния.
Бартенев, раз подняв глаза на Нальянова, тут же и опустил их.