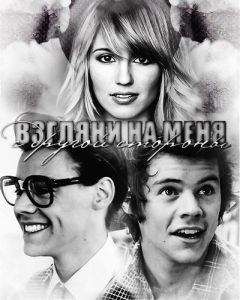Катерина Врублевская - Дело о старинном портрете
— Как вам понравилась Мона? — спросил он. — Не правда ли, это изумительно, особенно если учесть ее состояние…
— Какое состояние? — спросил Засекин-Батайский.
— Вы не знаете? У нее трагедия! Прошлой ночью убили ее сестру. Бедная девушка! Последний раз я видел ее вместе с вами, в студии вашего друга и ее любовника.
— Боже мой! — ахнул князь. — Такая юная девушка. Это она приходила к вам накануне, мадам Авилова?
— Она самая, — кивнула я.
— Какой ужас!
— А откуда вам это известно, мсье Кервадек? — спросила я.
— Что Протасов был любовником мадемуазель Мерсо?
— Нет, как раз это меня не интересует. Откуда вы знаете, что Сесиль убили?
— У меня такая профессия — знать все, что происходит в мире искусства, иначе утопят более шустрые. — Кервадек продолжал улыбаться одними губами, глаза же оставались пронзительными и сверлящими. — Говорят, мадемуазель Сесиль была неплохой художницей. Да еще лепила прелестные статуэтки.
— На которые теперь поднимется цена, не правда ли? — саркастически заметила я.
— Каждый зарабатывает, как может. — Он ничуть не обиделся.
В этот момент какой-то молодой человек в бархатной блузе и берете отвлек Кервадека, заговорив о ценах на пейзажи, и мы с князем снова бросились к боковой двери.
Коридор был наполнен запахами театрального грима, клея для декораций и разгоряченных тел. Перед уборными танцовщиц стоял служитель в яркой форме с галунами и сдерживал натиск молодых людей, желавших лично выразить Моне свое восхищение.
— Господа, господа, не положено. Отойдите от двери, не толпитесь тут. Мадемуазель Мона отдыхает и велела никого не пускать. Цветы и записки складывайте на столик, — бубнил он, отпихивая ретивых обожателей. — Приходите завтра на представление, мы будем рады. Расходитесь, расходитесь.
Я поняла, что к Моне пройти невозможно, а мне необходимо было увидеться с де Кювервилем.
— Так вы сможете устроить мне встречу с виконтом, князь? — спросила я Засекина-Батайского.
— А для чего это вам, Полина?
— Кирилл Игоревич, разве вы не помните тот рисунок Андрея, с двумя персонажами на нем — русским министром и человеком в клетчатой пелерине?
— Помню, конечно, а что?
— У виконта такое же пальто. Вот я и хочу узнать, не он ли изображен на рисунке.
— Какое интересное предположение. Откуда вам это известно?
— Я видела подобное пальто у Моны в шкафу.
— И о чем вы будете расспрашивать виконта, Полина? — улыбнулся князь. — Не забыл ли он свое пальто у содержанки?
Я предпочла умолчать о том, что свидетельница видела господина в пальто с клетчатой пелериной, выходившего ранним утром из подъезда дома, где жила Сесиль.
— Кстати, Кирилл Игоревич, а чем занимается виконт де Кювервиль? Служит где-нибудь?
— Насколько мне известно, до недавнего времени он служил товарищем министра общественных работ. Где сейчас — не знаю, но можно попробовать его отыскать.
— Вот мы и дома, — сказала я, когда фиакр остановился перед калиткой отеля «Сабин».
Чудесно! — воскликнул князь и подал мне руку, выйдя из экипажа. — Мы добрались на удивление быстро. Полина, скажите, зачем вам это? Искать убийц, проверять улики — то пальто, не то… Пусть парижская полиция разбирается. Вам, женщине и дворянке, не пристало.
— Не будет она разбираться, — вздохнула я. — Что ей русский художник и его подруга-натурщица?
Поняв, что князь Засекин-Батайский не поддержит меня в моих изысканиях, я решила действовать через Мону. Но сначала надо было похоронить несчастных.
***Добиться выдачи тела Андрея оказалось нелегко. На следующее утро я снова зашла к Моне, и мы с ней отправились в полицию. Сидеть в длинных неуютных коридорах нам пришлось несколько часов, и все из-за бюрократических формальностей. Под различными предлогами нам отказывали, посылали в разные кабинеты департамента, пока наконец к нам не вышел полицейский и не протянул два предписания.
— Спасибо, — робко поблагодарила я чиновника. — Что теперь с ними делать?
— Передайте эти бумаги в погребальную контору. Там все устроят как подобает.
Он козырнул и ушел.
— Пойдем, — сказала Мона, — нужно найти приличных похоронных дел мастеров.
Мы шли по залитым солнцем бульварам. На сердце у меня немного отлегло, и я наконец решилась спросить:
— Мона, скажи, что заставило тебя совершить вчера столь безумный поступок?
Ах, дорогая Полин, — вздохнула она, — вы, иностранцы, сложили особое мнение о французах, а особенно о парижанах: мол, это галантные любвеобильные мужчины и кокетливые романтичные дамы. Париж очень любит приехавших на неделю, но не очень привечает оставшихся на всю жизнь.
— Это понятно… — Я вспомнила безрадостные письма Андрея.
— Поэтому дело чести для парижанина — показать иностранцу, какой он сердцеед и как искушен в таинствах любви. Именно приехавшие на короткий срок путешественники разнесли по всему миру миф о любвеобильности, расточительности и галантности французов.
— Разве это миф? — удивилась я.
— Конечно, милая Полин! — рассмеялась Мона. — Поддерживать реноме местный житель может неделю, не более. Даже месяц для него слишком много. На самом же деле средний француз скуп, расчетлив и выжимает деньги из всего, что только попадется ему на глаза. Состоятельный человек может выкинуть бешеные деньги на бриллианты для своей возлюбленной или на десятки корзин цветов, но только если она появится в этих бриллиантах на балу и все вокруг будут перешептываться: «Невероятно! Он так богат!» — а цветы будут украшать не спальню дамы, где, кроме нее, их никто не увидит, но вход в дом, куда приглашены десятки гостей.
— Ты считаешь, что французы любят показывать себя?
— Да.
— Кто же этого не любит? Знаешь, как русские купцы прикуривают от ассигнаций или кидают роскошные шубы в грязь на глазах у зевак, дабы женщина, которой они домогаются, могла дойти до кареты, не испачкавшись?
— Но только французы сумели показать всему миру, что галантность и страсть — главные качества их натуры.
— Допустим, ты права. А танец-то при чем? Как он соотносится с тем, что ты сейчас сказала?
— Мне захотелось отомстить Оллеру за то, что он заставил меня выйти на сцену в день смерти сестры. Чтобы начались беспорядки, чтобы полиция пришла и закрыла кабаре. А что вышло? Оллер прибежал ко мне в уборную, расцеловал, сунул двести франков и сказал, что завтра закажет Тулуз-Лотреку афишу: «Несравненная Мона и ее напрягшийся сосок». А как бушевал Огюст!
— Кто это?
— Виконт, мой покровитель, я тебе говорила о нем. Я ему сразу приказала молчать и не сметь мне указывать! Пусть не думает, что если он дает мне деньги, то я — его собственность!
— Скажи, Мона, твой виконт был знаком с Протасовым?
— Конечно. Я их познакомила. Сестра попросила найти для ее друга покупателя, вот я и сказала Огюсту. Но ему не понравились картины Андре, он так ничего и не купил, и Сесиль на меня надулась.
— Ему не нравятся импрессионисты?
— Ему не нравится все французское! Это воспитание его матери, немецкой княгини, всю жизнь считавшей брак с французом мезальянсом. Не понимаю, как можно родиться во Франции, прожить всю жизнь в Париже и обожать сосиски с кислой капустой, как какой-нибудь Фриц или Ганс! Меня с души воротит, когда я чувствую этот запах!
Только что Мона ругала французов, теперь обратила свой гнев на немцев. Я понимала, что это раздражение — всего лишь следствие того душевного состояния, в котором находилась девушка. Если бы виконт ее не устраивал, стала бы она поддерживать с ним длительную связь?
— Мона, прошу тебя, устрой мне встречу с виконтом. Мне очень нужно поговорить с ним об Андре. Это очень важно!
Зачем тебе? — удивилась она. — Они же только раз и виделись, когда Андре приходил ко мне с картинами. Ни о чем особенном не говорили. Огюст посмотрел картины и сказал, что ему ничего из них не подходит. Но раз тебе надо, после похорон я поговорю с де Кювервилем.
Тем временем мы добрались до улицы Фонтен-Сен-Жорж, на которой нестерпимо пахло навозом. На доме номер десять висела табличка: «Эдмон Кальмез, прокат лошадей и экипажей». Вся улица была запружена фиакрами. Около соседнего дома стояли два катафалка, украшенные атласными рюшами и кистями. Вывеска гласила: «Антуан Сен-Ландри и зять. Погребальные услуги».
— Это здесь, — сказала Мона, — войдем.
Звякнул колокольчик, и нам навстречу поднялся толстый румяный человечек в черной визитке, застегнутой над круглым животом на одну пуговицу, и с усиками, закрученными колечками. Он вышел из-за столика, на котором лежали образцы крепа. В углу, на массивной вешалке с затейливыми крючками разной величины, висели цилиндры. На лице гробовщика не появилось улыбки, обычно сопутствующей приходу клиентов. Напротив, он изо всех сил попытался скрыть радость и нахмурить брови, дабы выразить нам соболезнование. Но сангвинический темперамент брал свое, и человечек безуспешно боролся с его проявлениями.