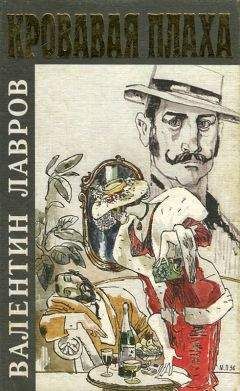Валентин Лавров - Блуд на крови. Книга вторая
…Спустя пять лет после воцарения Корейши в Москве, к нему явился мужчина офицерской выправки, но наряженный в простонародную чуйку и стоптанные набок хромовые сапоги. Это был несостоявшийся жених — Егор Коротаев, глаза его лихорадочно горели, руки чуть нервно подрагивали. В этом несчастном трудно было узнать самоуверенного, полного животной силы гвардейца.
Тревожно оглянувшись по сторонам, гость громким шепотом произнес:
— Любезный… э-э, уважаемый… многоуважаемый Иван Яковлевич! Вероятней всего, вы меня не помните. Мы с вами встречались под Смоленском… в лесу. Я тогда еще немного погорячился. Очень желал бы поговорить с вами тет-а-тет, так сказать, с глазу на глаз, без лишних свидетелей.
Глаза Корейши хитро блеснули, он кивнул приближенным, всегда наполнявшим помещение:
— Кыш отселя! Земляк мой смоленский прилетел яко сокол быстрый, от погони ушел.
Все клевреты моментально исчезли, словно их ветром сдуло.
Иван Яковлевич поудобней развалился на кровати:
— Ну, непутевый, докладывай! Сегодня палкой махать не будешь?
Коротаев нервно сглотнул, хрипло выдавил:
— Что было — то было! А ныне, по причине людской злобы и клеветнических наветов, нахожусь в бегах, спасаюсь от суда неправедного…
Иван Яковлевич иронически усмехнулся:
— Оклеветали агнца Божьего?
Коротаев, сделав вид, что не замечает насмешки, торопливо продолжал:
— Имение мое за долги продано, и еще обвиняют в растрате казенных средств. Грозит мне лишение всех прав состояния и решетка тюремная…
— «Терпение убогих не погибнет до конца»!
— Плоть моя изнемогает от нынешней жизни тяжелой, — Коротаев, желая угодить юродивому, пытался попасть в тон его речи. На устах Корейши играла грустная улыбка.
— Я в отчаянии совершеннейшем, — Коротаев обхватил голову руками. — Убедившись, Иван Яковлевич, в вашей мудрости и прозорливости, к стопам вашим повергаюсь и вопрошаю со смирением: что делать мне?
Надолго воцарилось молчание. Наконец, словно пробудившись от дум, Корейша поднялся с постели и уселся за крошечный столик, на котором лежала белая стопка бумаги и стоял чернильный прибор. Он любил подавать советы письменным образом, записывая их, порой завуалированные в аллегорическую форму, порой вполне ясные.
Заметим, что почерк у Ивана Яковлевича обличал в нем человека высокоразвитого. Начертание слов было несколько архаичным и напоминало каллиграфию времен Екатерины II (автор этих строк имел возможность убедиться в этом лично). Вот, наконец, что-то написал Корейша на четвертушке бумаги и протянул гостю:
— Прощай, мы больше не встретимся.
Коротаев пробежал глазами записку. Его лицо запылало от гнева, он с ненавистью затопал сапогами:
— Пропади пропадом, гнусный старик! Зачем только к тебе пришел? Всю жизнь ты стоишь на моем пути!
Корейша негромко возразил:
— Не я, а нечистый стоит на твоем пути. Ты вошел и даже забыл лоб перекрестить, вот черный тебя полюбил. Дела творишь злые и нет на тебе благословения.
В тот же вечер на постоялом дворе Поповой, что в приходе Спаса на Глинищах, произошел смертельный случай. Постоялец из второго нумера пустил себе пулю в лоб. Выяснилось позже, что это тот самый Егор Коротаев, из дворян, которого разыскивали за растрату. В кармане самоубийцы нашли записку «Бегаешь быстро, а пуля еще быстрей».
А на другой день в полицию пришло отношение, гласившее: поскольку растрата Коротаева погашена одним доброхотом, то уголовное дело прекращено и с преступника обвинения снимаются.
Так на этом несчастном дважды сбылись предсказания Корейши.
ЭПИЛОГ
Как догадывается читатель, лицо, внесшее растрату — это Соня Облесимова. Она осуществила свое желание: приняла сначала послушание, а спустя три года и постриг. После последовавшей вскоре смерти Натальи Федоровны мать Александра (в миру Соня) наследовала громадный капитал.
Она употребила его на помощь бедным.
Однажды мать Александра сопровождала настоятельницу монастыря в Москву. Там она посетила Ивана Яковлевича, осыпала богатыми подарками. Тот произнес слова, которые, кроме матери Александры, никто не понял: «Ты — судьба моя».
В сентябре 1861 года «Полицейские ведомости» поместили некролог:
«Находившийся в Преображенской больнице Иван Яковлевич Корейша сего сентября 6-го числа в четвертом часу пополудни скончался. Отпевание тела имеет быть в воскресенье 10 сентября в 10-м часу утра в приходской церкви Екатерининского Богадельного дома, а погребение в Покровском монастыре».
Но на место последнего успокоения претендовали еще два кладбища — Черкизовское и женского Алексеевского монастыря. К счастью, погребение было совершено на первом. Почему «к счастью»? Да потому, что в годы большевистского маразма два первых были кощунственно превращены в стадион (Алексеевское) и так называемый «парк культуры» (Покровское).
Память об удивительном Корейше жива. Придите на Черкизовское кладбище и сразу направо от входа вы увидите его тщательно ухоженную могилу. Поклонитесь праху замечательного человека!
ТЕНЬ ДЬЯВОЛА
Словно зловещий рок тяготел над семьей Достоевских. Великий писатель страдал эпилепсией. Он пережил ни с чем не сравнимые муки приговоренного к смерти, полной мерой хлебнул горькой чаши каторги и солдатчины. Совсем молодой — в 36 лет — скончалась мать Достоевского. Собственными крестьянами был убит отец. Короток век первой жены писателя — Марии Дмитриевны, детей Софьи и Алексея. Безвременно ушел из жизни любимый брат Михаил.
И уже на закате века всю Москву потрясла кровавая трагедия родной сестры Федора Михайловича — Варвары… Об этом наш рассказ.
ЧАЙ НА ДВОИХ
— То-то любезная была езда, — с удовольствием говорила старуха лет семидесяти, неловко вылезая из саней и путаясь в длинных полах лисьего салопа. — И снежно нынче, и морозец в аккурат, самый легкий и даже приятный. От дочки домчались как на волшебном ковре-самолете — в мгновение ока. А ведь расстояние отскакали весьма интересное, не близкое.
— Извольте, Варвара Михайловна, встать сюда, на утоптанное, — с подобострастием произнес парень неказистой наружности, впрочем, вполне приличной. Он был одет в сильно поношенную шинель, прежде солдатскую, но давно употреблявшуюся в штатских целях — вместо зипуна и весьма засаленную, а в подоле даже разорванную, но, к чести владельца, крепко заштукованную.
— Тпру, шальной, — прикрикнул парень на резвого коня, впряженного в сани. — Держитесь за саночки, а это мне передайте, — и он с заботливой суетливостью принял у старухи легкий парусиновый сак замоскворецкой работы. — Вы точно подметили, домчались мы живо. Каурого даже немного запарили. Повернитесь, пожалуйста, спинкой, смахнуть надо, — и парень тяжелой рукавицей начал стряхивать со старушечьего салопа снег. — Вот так, сделайте такое ваше одолжение, еще повернитесь. — И, соблюдая сугубую осторожность, парень сдул пушистые снежинки c допотопной, времен Екатерины, собольей шапки. — Эко вас засыпало!
— Ну, будет! — остановила его усердие старуха. — Иди-ка лучше на лестницу, там посвети. Ишь, ходить стало что-то тяжело, а прежде порхала что твоя птичка! Еще когда парадная лестница была в нашем доме открыта постоянно, так я, веришь ли, по нескольку раз по ней чуть не бегом взлетала. Пошли!
Уминая снег, наметенный возле крыльца, большими обшитыми рыжей кожей валенками, парень вошел в неосвещенные сени черного хода. Нашарив на притолоке огарок свечи, он серником зажег его и, держа руку на отлете, двинулся по лестнице, освещая старухе путь.
На третьем этаже старуха достала из ридикюля громадный, старинного образца ключ и собственноручно отперла замок.
— Не угодно ли, барыня, чаю? — предупредительно спросил парень, стаскивая с головы башлык. — Потому как дальнейший путь и естественная усталость…
— Ну, Ванюшка, похлопочи! — доброе лицо старухи расплылось в улыбке. — Молодец, что стараешься… Имей я капитал, так держала бы прислугу, а при моей бедности лишь ты моя опора.
— Стараюсь, ибо испытываю к вам, Варвара Михайловна, душевную приверженность. — Иван был большим охотником до чтения. По этой причине он любил выражаться весьма художественно. — К тому ж юбилейное торжест-во-с!
— И то сказать — сегодня ровно семь десятков лет исполнилось! — Варвара Михайловна с некоторой грустью глянула на листок отрывного календаря: «5 декабря 1892 года».
…Вскоре на столе появился испускающий пар самовар. Варвара Михайловна полезла в ящики письменного стола, извлекая оттуда нехитрую провизию: баночку с вишневым вареньем, сухую колбаску, несколько маслин на блюдечке, сардины и даже плотно заткнутую пробкой початую бутылку бордо. Иван выпил маленькую рюмку, потирая руки и приговаривая: