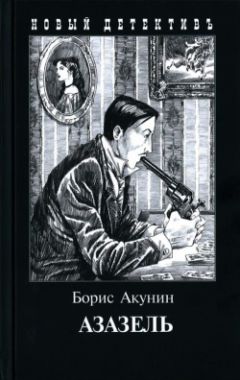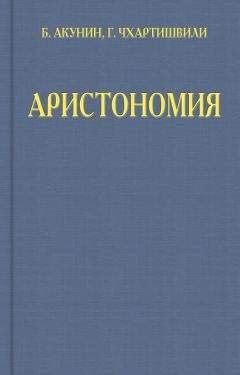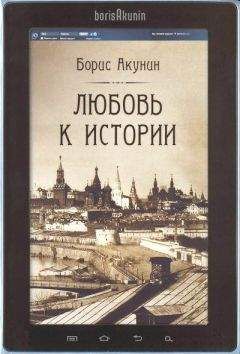Азазель - Акунин Борис "Чхартишвили Григорий Шалвович"
– Это уж точно. Она не ошибается. Ради нее я что хочешь – папашу бы родного не пожалел. Если б, конечно, он у меня был. Мать родная для нас столько не сделала бы, сколько она сделала.
– Само собой… Все, идем.
Эраст Петрович подождал, пока вдали стихнут шаги, для верности досчитал еще до трехсот и лишь тогда двинулся к берегу.
Когда он с великим трудом, несколько раз сорвавшись, взобрался на низенький, но почти отвесный парапет набережной, тьма уже начинала таять, теснимая рассветом. Несостоявшегося утопленника била дрожь, стучали зубы, а тут еще икота накатила – видно, наглотался затхлой речной воды. Но жить все равно было замечательно. Эраст Петрович окинул любовным взглядом серый речной простор (на той стороне ласково светились огоньки), умилился добротности приземистого пакгауза, одобрил мерное покачивание буксиров и баркасов, вытянувшихся вдоль пристани. Безмятежная улыбка озарила мокрое, с мазутной полосой на лбу лицо восставшего из мертвых. Он сладостно потянулся, да так и замер в этой нелепой позе – от угла пакгауза отделился и быстро-быстро покатился навстречу низенький, проворный силуэт.
– Вот ироды, вот бестии, – причитал силуэт на ходу тонким, издалека слышным голоском. – Ведь ничего поручить нельзя, за всем догляд нужен. Куда вы все без Пыжова, куда? Пропадете, как щенята слепые, пропадете.
Охваченный праведным гневом, Фандорин рванулся вперед. Похоже, изменник воображал, что его сатанинское отступничество осталось нераскрытым.
Однако в руке губернского секретаря сверкнуло нехорошим блеском что-то металлическое, и Эраст Петрович сначала остановился, а потом и попятился.
– Это вы правильно, клубничный мой, рассудили, – одобрил Пыжов, и стало видно, какая упругая, кошачья у него походка. – Вы разумный отрок, я сразу определил. Это ведь что у меня, знаете? – Он помахал своей железякой, и Фандорин разглядел двуствольный пистолет необычайно большого калибра. – Жуткая штука. На здешнем разбойном жаргоне «смэшер» называется. Вот сюда, изволите ли видеть, две разрывные пульки вставляются – те самые, что Санкт-Петербургской конвенцией 68-го года запрещены. Да ведь преступники, Эрастушка, злодеи. Что им человеколюбивая конвенция! А пулька разрывная, как в мягкое попадет, вся так лепесточками и раскрывается. Мясо, косточки, жилки всякие в сплошной фарш преображает. Вы уж, ласковый мой, полегонечку, не дергайтесь, а то я с перепугу выпалю, а потом не прощу себе такого зверства, каяться буду. Очень уж больно, если в живот попадет или еще куда-нибудь в той области.
Икнув, но уже не от холода, а от страха, Фандорин крикнул:
– Искариот! Продал отчизну за тридцать серебряников! – И снова попятился от зловещего дула.
– Как изрек великий Державин, непостоянство – доля смертных. Да и зря вы меня обижаете, дружочек. Не на тридцать сиклей я польстился, а на сумму гораздо более серьезную, аккуратнейшим образом в швейцарский банк переводимую – на старость, чтоб под забором не околеть. А вас-то, дурашку, куда занесло? На кого тявкать вздумали? В камень стрелять, только стрелы терять. Это ж силища, пирамида Хеопсова. Лбом не сковырнешь.
Эраст Петрович между тем допятился до самой кромки набережной и был вынужден остановиться, чувствуя, как низенький окаем уперся ему в лодыжку. Этого-то Пыжов, судя по всему, и добивался.
– Вот и хорошо, вот и славно, – пропел он, останавливаясь в десяти шагах от своей жертвы. – А то легко ли мне такого упитанного юношу до воды потом волочь. Вы, яхонтовый мой, не тревожьтесь, Пыжов свое дело знает. Хлоп – и готово. Вместо красна личика – красна кашица. Если и выловят – не опознают. А душа сразу к ангелам воспарит. Не успела она еще нагрешить, душа-то юная.
С этими словами он поднял свое орудие, прищурил левый глаз и аппетитно улыбнулся. Стрелять не спешил, видно, наслаждался моментом. Фандорин бросил отчаянный взгляд на пустынный берег, тускло освещенный рассветом. Никого, ни единого человека. Это уж точно был конец. Возле пакгауза вроде бы возникло какое-то шевеление, но рассмотреть толком не хватило времени – грянул ужасно громкий, громче самого громкого грома выстрел, и Эраст Петрович, качнувшись назад, с истошным воплем рухнул в реку, из которой несколько минут назад с таким трудом выбрался.
Глава двенадцатая,
в которой герой узнает, что у него вокруг головы нимб
Однако сознание не покинуло застреленного, да и боли почему-то совсем не было. Ничего не понимая, Эраст Петрович замолотил руками по воде. Что такое? Жив он или убит? Если убит, то почему так мокро?
Над бордюром набережной возникла голова Зурова. Фандорин ничуть не удивился: во-первых, его в данный момент вообще трудно было бы чем-то удивить, а во-вторых, на том свете (если это, конечно, он) могло произойти и не такое.
– Эразм! Ты живой? Я тебя задел? – с надрывом вскричала голова Зурова. – Давай руку.
Эраст Петрович высунул из воды десницу и был единым мощным рывком выволочен на твердь. Первое, что он увидел, встав на ноги, – маленькую фигурку, что лежала ничком, вытянув вперед руку с увесистым пистолетом. Сквозь жидкие пегие волосенки на затылке чернела дыра, снизу растекалась темная лужица.
– Ты ранен? – озабоченно спросил Зуров, вертя и ощупывая мокрого Эраста Петровича. – Не понимаю, как это могло приключиться. Просто revolution dans la balistique. [30] Да нет, не может быть.
– Зуров, вы?! – просипел Фандорин, наконец уразумев, что все еще находится не на том свете, а на этом.
– Не «вы», а «ты». Мы на брудершафт пили, забыл?
– Но за-зачем? – Эраста Петровича снова начало колотить. – Непременно хотите сами меня прикончить? Вам что, премию за это обещал этот ваш Азазель? Да стреляйте, стреляйте, будь вы прокляты! Надоели вы мне все хуже манной каши!
Про манную кашу вырвалось непонятно откуда – должно быть, что-то давно забытое из детства. Эраст Петрович хотел и рубаху на груди рвануть – вот, мол, тебе моя грудь, стреляй, но Зуров бесцеремонно тряхнул его за плечи.
– Кончай бредить, Фандорин. Какой Азазель? Какая каша? Дай-ка я тебя в чувство приведу. – И незамедлительно влепил измученному Эрасту Петровичу две звонкие оплеухи. – Это же я, Ипполит Зуров. Немудрено, что у тебя после таких напастей мозги расквасились. Ты обопрись на меня. – Он обхватил молодого человека за плечи. – Сейчас отвезу тебя в гостиницу. У меня тут лошадка привязана, у этого (он пнул ногой недвижное тело Пыжова) – дрожки. Домчим с ветерком. Обогреешься, хватанешь грогу и разъяснишь мне, что у вас здесь за шапито такое творится.
Фандорин с силой оттолкнул графа:
– Нет уж, это ты мне разъясни! Ты откуда (ик) здесь взялся? Зачем за мной следил? Ты с ними заодно?
Зуров сконфуженно покрутил черный ус.
– Это в двух словах не расскажешь.
– Ничего, у меня (ик) время есть. С места не тронусь!
– Ладно, слушай.
И вот что поведал Ипполит.
– Думаешь, я спроста тебе адрес Амалии дал? Нет, брат Фандорин, тут целая психология. Понравился ты мне, ужас как понравился. Есть в тебе что-то… Не знаю, печать какая-то, что ли. У меня на таких, как ты, нюх. Я будто нимб у человека над головой вижу, этакое легкое сияние. Особые это люди, у кого нимб, судьба их хранит, от всех опасностей оберегает. Для чего хранит – человеку и самому невдомек. Стреляться с таким нельзя – убьет. В карты не садись – продуешься, какие кундштюки из рукава ни мечи. Я у тебя нимб разглядел, когда ты меня в штосс обчистил, а потом жребий на самоубийство метать заставил. Редко таких, как ты, встретишь. Вот у нас в отряде, когда в Туркестане пустыней шли, был один поручик, по фамилии Улич. В любое пекло лез, и все ему нипочем, только зубы скалил. Веришь ли, раз под Хивой я собственными глазами видел, как в него ханские гвардейцы залп дали. Ни царапины! А потом кумысу прокисшего попил – и баста, закопали Улича в песке. Зачем его Господь в боях сберег? Загадка! Так вот, Эразм, и ты из этих, уж можешь мне поверить. Полюбил я тебя, в ту самую минуту полюбил, когда ты без малейшего колебания пистолет к голове приставил и курок спустил. Только моя любовь, брат Фандорин, – материя хитрая. Я того, кто ниже меня, любить не могу, а тем, кто выше, завидую смертно. И тебе позавидовал. Приревновал к нимбу твоему, к везению несусветному. Ты гляди, вот и сегодня ты сухим из воды вышел. Ха-ха, то есть вышел-то, конечно, мокрым, но зато живым, и ни царапинки. А с виду – мальчишка, щенок, смотреть не на что.