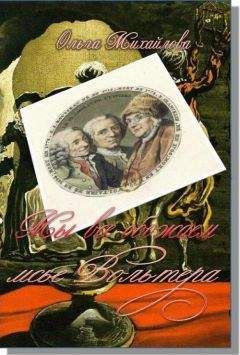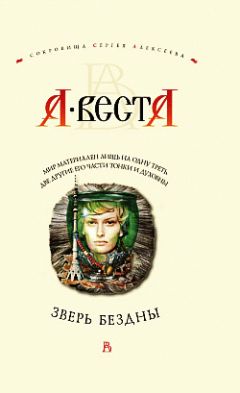А. Веста - Зверь Бездны
Приезжали тут к нам умники «феномен изучать». Сказали, что с войны тут много железа закопано, оттого и всякие свечения среди болот возникают. И Пастушка нашего нет, одно мечтание. Только ты никому не верь — есть Пастушок!
Старик умолк, скорбно вздыхая, но Алексей, пряча глаза, снова приступил:
— Егорыч, а Егорыч!
— Ну что?
— Самогон, что в сенях стоял, я использовал. У тебя больше нет?
— Использовал? За мое здоровье али для храбрости? — оживился Егорыч. — Хотя храбрости тебе не занимать. А чего это тебя, паря, на самогон потянуло, не знаю. Женился бы ты. Это крепче прихватит.
— Да мне, Егорыч, нельзя жениться-то. Я после ранения на племя не гожусь, доктора меня приговорили. Только они меня не спросили на что мне жизнь, такая нужна… Вот ты, Егорыч, уж за восемьдесят, а все мужик. Бывает: стар, да петух! А молод, да протух.
— Нехороша пословица. Я другую знаю: «Что телу любо, то душе грубо». Любовь-то, паря, не там гнездится, а этажом выше. Вот послушай, что тебе расскажу про любовь-то. Я в войну всякого насмотрелся. Война она и сватья, и разлучница. Однажды ночью в госпитале не сплю, рана как скважина буровит. А на полу у печки боец умирает на руках у сестрички. Вот слышу, он и просит сестру грудь ему напоследки показать. Сестра кофтенку расстегнула, а грудка махонькая, еще девчоночья. Вот он кладет руку ей на грудь и спокойно умирает.
— Да…
Алексей любил стариковские рассказы и осторожно вызывал старика на откровения. И Егорыч забывался и молодел, едва касался памятью своей военной юности.
— А ты любил кого-нибудь, Егорыч, так чтобы единственную, и на всю жизнь?
— Любил и сейчас… люблю. В сорок третьем это было. Попали мы с командиром моим в один прифронтовой город. Командир предложил мне переночевать у него на квартире, вблизи Приморского бульвара. Там у него была хозяйка, чудная такая женщина. Он о ней часто вспоминал. Сидим. Часов уже восемь вечера, стемнело.
— Как-то не симметрично получается, — со значением говорит командир.
— А не позвать ли нам Екатерину Андреевну? — вторит ему хозяйка и подмигивает.
Тот одобряет.
— Вот сейчас вы увидите прекрасную женщину!..
А мне двадцать два, в этом возрасте все прекрасными кажутся. И приводит хозяйка женщину красоты изумительной. И бывают же такие! Умная, благородная, поверишь ли, с первого взгляда она очаровала меня. Царица да и только! От одного звука ее голоса, от смеха все во мне шевелилось… До нее я болтал без умолку, был в ударе, но пришла она, и я умолк. Ну командир, конечно, не упускает повода подтрунить:
— Что-то вы, старшина, совсем язык проглотили с приходом Екатерины Андреевны.
Короче, кончился ужин, и я проводил ее на верхний этаж, и все.
Следующий день я весь в огне, голову потерял. Командир в последнюю минуту и говорит:
— Может быть, пойдем и сегодня ко мне. Тебе ведь негде.
Я с радостью принял приглашение. Был снова вечер. На этот раз я осмелел. Молод я был и прежде ни одной юбки не пропускал, а тут робею, как в первый раз… И был у нас прекрасный день и еще одна прекрасная ночь. О ней я не забуду всю жизнь, так она была хороша, эта ночь. И я ушел в поход.
Месяц меня не было вблизи, но все не мог я забыть ту ночь на Приморском. Ее лицо так и стояло в моем сердце. Наконец правдою и неправдою я добился увольнительной. В первую очередь в баню, в парикмахерскую, к чистильщику…
Взял для нее подарки, не от вульгарности взял, а от души, и со свертком медленно поднимаюсь к ней. Перед дверью постоял, чтобы сердце унялось. Наконец постучал. Молчание. Еще раз. Молчание. Тогда я ударил что было силы. Слышу — шаги. И вот она появилась у двери, накинув шаль. Прекрасная, сказочная стояла, но таким холодным странным взглядом смотрела, что я обмер.
— Ну что же вы стоите, Иван? Заходите, если хотите…
Представь, Алешенька, каково мне было… Куда деть сверток, куда деть себя, свои руки. Отказаться — нет сил, и я вошел, в темной передней бросил подарки в угол. Сел на диван. Она перебирает скатерть, переставляет графин.
— Ну, как живете?
— Как видите.
Я протянул руку, взял ее ладони. Руки ледяные. Она не выдергивает рук и вяло садится рядом со мной. Такая красивая! Мы в комнате одни. Я ее поцеловал в губы крепко-крепко. И вдруг вижу, что тело ее в моих объятиях тяжелеет, валится. Зубы стучат. Я испугался — что делать? Понес ее на кровать. Схватил было графин с водой, но у нее озноб. Решил согреть, укрыл одеялом.
Понемногу она пришла в себя, открыла глаза. Я снова ее поцеловал — долго-долго… Вспоминаю; слезы подступают к глазам. Она едва ответила мне.
— А вам не холодно целовать… голодную женщину…
А ведь сколько раз я хотел предложить что-нибудь, но я боялся обидеть ее.
Я тотчас бросился в город, отыскал друзей, денег она не взяла бы. Я достал и сахар, и муку, и крупу и со всем этим послал к ней товарища.
После этого я бывал много раз у нее. Но ни разу — веришь ли — не остался ночевать. Не мог! Мне казалось, что она будет отдаваться мне из благодарности, за продукты. И мне будет казаться, что я ее купил…
Егорыч умолк, переминая губами. Слеза застряла в седой щетине.
— После войны я не стал ее разыскивать. Забыть хотел. Да вот так и не смог. И если мне бы кто-нибудь сказал, что жива она и где ее искать, я бы на коленях к ней пополз.
На заимку Алексей вернулся в густых сумерках. Велта кубарем слетела с крыльца, ударилась в колени и, едва не сбив с ног, серым снарядом метнулась обратно, и уже на крыльце, встав на задние лапы, принялась яростно скрести дощатую дверь. Алексей вытащил из скобок разбухшую жердь, и на подгибающихся ногах шагнул в темную избу.
В избушке ничего не изменилось. Алексей потрогал платок и холодный лоб покойницы, склонился над ее лицом и, почти коснувшись губами ее губ, ощутил слабое движение воздуха. Он развязал узел смертного плата, огладил ее лицо, и сжал ладонями влажные виски.
В пляшущем свете коптилки на ее щеках подрагивала тень от сожженных ресниц, в уголках измученного рта шевелились едва заметные морщинки. Встав на колени, он долго смотрел в ее лицо. Под ресницами влажно поблескивало, там копилась живая слеза.
Он растопил печь, вскипятил чайник и приготовил травяной настой, густо замесив его медом. Егорыч звал этот живительный напиток «сыть». По капле вливал в ее рот теплую густую жижу, но не рассчитал и нечаянно залил сразу всю ложку. В горле ее что-то булькнуло, и она сделала едва заметный глоток.
Он не отходил от нее несколько дней, боясь, что оставшись одна, она оторвется и вероломно уплывет от него. Он напрочь забыл о старике, о Грине, не ходил в лес, не ел и не спал.
Он лелеял и вынашивал эту драгоценную жизнь. Он обладал этой жизнью, он имел на нее все права и как скряга берег каждую ее минуту. На второй день он заметил, что ее раны мокнут и гноятся, и, не имея под рукой ничего кроме лечебных трав и листьев, он обкладывал раны зеленой жеваной кашицей, и раны стали подживать, затягиваться новой, блестящей кожей, выровнялись ссадины, сползли иссиня-черные синяки. Девушка не открывала глаза, но он чувствовал, что она спит, и от этого зачарованного сна быстрее заживают ее увечья. Всякий раз руки его тряслись, как у вора, когда он поднимал самодельную рубашку в пятнах присохшей крови, менял повязки, обмывал и заново пеленал ее, и эти мгновения младенческой открытости и беспомощности наполняли его искалеченную душу ослепительным, греховным блаженством. Из скользкого стыда рождалась чувственность, пробуждалась, судорожно раскрывалась, как новорожденная бабочка, и он больше не был кастратом, тихим блаженным скопцом, он чувствовал и желал.
Когда на пятый день к вечеру он обошел заказник, было уже поздно. Березовая роща, подковой опоясывающая болото, была вырублена. Поникшие, жухлые кроны устилали землю. В сумерках белели округлые спилы. Пни отекали густым млечным соком.
— Дорвались, звери, — прошептал Алексей.
Он выстрелил несколько раз, пугая птиц, словно салютовал на братском кладбище. Весь прошлый год они с Егорычем ежедневно проверяли угодья. Браконьеры знали, что ни с Егорычем, ни с «подголоском» Егорыча нельзя договориться.
Алексей и в армию пошел все из-за той же принципиальности и наивной донкихотской уверенности, что жить надо по правде. Когда пришла повестка, не стал искать отмазки. Таких рослых, статных и развитых ребят на комиссии было немного. Алексей был приписан к войскам специального назначения, прошел Омский учебный парашютно-десантный центр и через год оказался в Чечне. Он учился воевать, как учился бы любой другой работе. Не боялся трудностей, не подставлял товарищей, был справедлив и надежен, а когда стало жарко, за жизнь не цеплялся, но воевал умело. Как ни странно, там он был почти счастлив. «Кому война, а кому мать родна». Там он был нужен, и нужно было все, что было в нем: и то, что перешло в него по родовому коду, и то, что успела прочувствовать и накопить его душа. Он быстро разучился жалеть врагов, когда насмотрелся на солдатские трупы, подброшенные к расположению федералов, и как большинство втянутых в эту кровавую мясорубку, он запретил себе думать о причинах и целях этой войны. Он просто мстил за убитых друзей, не находя более высокой и возвышенной цели.