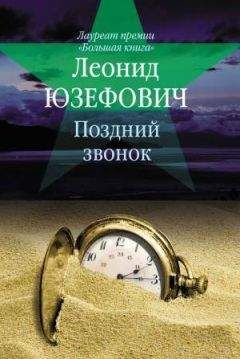Казароза - Юзефович Леонид Абрамович
«Новой религии нужно придать известную внешность, учредить обряды, построить храмы», — звучал в ушах голос Варанкина. Казалось, он объясняет ему, Свечникову, смысл этой картины, нарисованной лучом какого-то скрытого в нем же самом «волшебного фонаря».
Одновременно в розовом столбе проявилась крошечная женщина с пепельными волосами, в зеленой, цвета надежды, хламиде, тяжелыми складками ниспадавшей до самого пола. Ее руки были воздеты к висевшему на одной из граней портрету Заменгофа. Бабилоно, Бабилоно!. — пропела она своим хрустальным голоском. Невидимый хор отозвался ей с неожиданной мощью: Алта диа донно!
Единственным здесь темным пятном был подстеленный под гипсовую ручку на тумбе покров из черного бархата. Свечников понял, что это символ тьмы, окутавшей мир в промежутке между падением Вавилонской башни и созданием эсперанто.
В остальном все краски были ясными и чистыми, без полутонов и оттенков, только белое, розовое, зеленое, опять белое. Повсюду царил свет, вместе с тем атмосфера казалась мрачной, и почему-то возникла мысль, что такой она и должна быть в храме, построенном исключительно из надежды и разума, без примеси низких материй. Недаром в минуту внезапного прозрения, когда под рукой не оказалось ничего, кроме театрального билета, написано было: мозг, изъеденный червями… сердце в язвах изгнило. Это ее мозг, ее сердце. Ее душа стала черна и холодна, как лед.
В комнате было два окна. Вагин сидел возле одного, письменный стол стоял возле другого — так, чтобы свет падал с левой стороны. Вдруг возникло чувство, будто как раз оттуда, слева, на него кто-то смотрит сквозь стекло. Свечников повернулся к окну. Перед домом никого не было, на улице ни души, тем не менее он ясно чувствовал на себе чей-то взгляд и одновременно понимал, что взгляд этот направлен на него не снаружи, а изнутри, из его же собственной памяти. Анализировать такого рода ощущения он не привык, доверять им — тем более, но тревога не исчезала, потому что невозможно было вспомнить, кто и когда так на него смотрел и почему это в нем отпечаталось, чтобы проявиться именно сейчас.
Новое кресло было с омерзением вышвырнуто в коридор, там и валялось. Поздно вечером из спальни доносился взволнованный шепот невестки, короткие ответы сына, по традиции сохранявшего нейтралитет. Вагин сидел за столом, поставив перед собой фотографию Нади, настраиваясь, как обычно перед сном, подумать о ней и уже зная, что сейчас не получится.
До войны он хранил этот снимок вместе с номером газеты за тот день, когда они зарегистрировались. На четвертой полосе напечатано было стихотворение, посвященное юбилею Дома Работницы:
Как все, что было написано в рифму и прочитано в юности, Вагин до сих пор помнил наизусть эти стихи вплоть до последних строк:
Сегодня снотворное ему не полагалось. Он с трудом заснул где-то около двух, а минут через десять проснулся от грохота в коридоре. У сына была аденома, ночью он пошел в уборную и зацепил валявшееся на самой дороге кресло. Невестка с иезуитской предусмотрительносью запретила его убирать, чтобы утром Вагину стало стыдно за вчерашнее.
Свечников наконец подал голос. Поворачиваясь к нему, Вагин уже знал, какую картину застанет, и не ошибся. Оба слоя, под которыми скрывалась гипсовая рука, были развернуты, она покоилась на столе сиротливая, серая. Свечников смотрел на нее так, словно ему понятен заключенный в ней тайный смысл, но он не в силах этому поверить. Пузырьки, гребешки, пилюли сдвинуты в сторону, рядом лежал только театральный билет с написанными на обороте белыми стихами.
— Раскрывал? — спросил Свечников. Имелась в виду сумочка.
— Нет, — соврал Вагин и осторожно потрогал маленькую кисть с отходящим от остальных указательным пальцем — Что это такое?
— Не знаю, — сказал Свечников.
Врать он не умел, и по голосу слышно было, что врет.
— Сегодня в редакции Осипов ею интересовался, — доложил Вагин.
— Казарозой?
— Сумочкой. Заметил вчера, что она у меня осталась.
— А ты что? Показывал ему?
— Нет. Я же ее в редакцию не носил. Удовлетворенно кивнув, Свечников собрал со стола и сложил обратно в сумочку все, что в ней лежало, кроме гипсовой ручки и билета. Их он сунул в карман, а сумочку велел убрать туда, где она хранилась до его прихода.
Когда это было исполнено, последовал новый приказ:
— Собирайся, пойдем к Осипову. Свечка или фонарик у тебя есть?
— Свечка есть.
— Возьми с собой.
— Зачем?
— Возьми, возьми. Пригодится.
Бабушка тихонько посапывала за занавеской. Вагин укрыл ее, прихватил в кухне свечной огарок, вывел Свечникова на крыльцо и запер дверь.
Они дошли до угла, где нужно было поворачивать налево, но Свечников почему-то свернул направо.
— Сначала к Варанкину, — объяснил он.
Дверь открыла его жена с заплаканными глазами, сказавшая, что Михаила Исаевича арестовали еще днем. Увели прямо с занятий. Один студент приехал на велосипеде и рассказал.
— Не знаете, за что? — спросила она.
— Нет, — ответил Свечников.
Вагин опять почувствовал, что это неправда.
Они вышли на улицу и по Соликамской двинулись вниз, к Каме. Не доходя до нее двух кварталов, свернули на Монастырскую. Слева остался роскошный, с портиком и зимним садом на крыше, дом купца Мешкова. Его посеревшие растрескавшиеся колонны в сумерках выглядели белыми и чистыми, как раньше.
Миллионщик и меценат, подаривший городу четырехэтажное здание для открытого пять лет назад университета, Мешков когда-то покровительствовал революционерам всех мастей. Он снабжал их деньгами, добывал паспорта, прятал от полиции. В его доме они чувствовали себя в большей безопасности, чем за стенами иностранного посольства. Жандармы все знали, но с Мешковым предпочитали не связываться. Иногда на своей паровой яхте «Олимпия» он собирал вместе большевиков, меньшевиков, анархистов, эсеров, всякой твари по паре, как рассказывал Осипов, сам одно время будто бы состоявший в эсеровской партии, и в хорошую погоду плавал с ними по Каме и Сылве, устраивал диспуты, а сам выступал в роли судьи. Тем, кому он присуждал победу в споре, выдавалась на нужды партии денежная премия. Ужинали на палубе, лакеи разносили судки со стерляжьей ухой. Ангажированный тенор, отрабатывая царский гонорар, пел:
Еловые леса стояли на берегу, закат сыпал розовыми перьями. В легких шитиках покачивались на волне рыбаки. Из Камы выходили в Чусовую, оттуда — в Сылву, смотрели на белые известняковые обрывы, на пологие холмы, где перед походом в Сибирь зимовал Ермак.
«При виде такой красоты, с двадцатирублевым вином в бокале, — рассказывал Осипов, — мне хотелось забыть о наших распрях, стать не эсером, а просто человеком, просто божьим созданием перед лицом вечной природы». Увы, тут он был одинок. Никто из пассажиров не разделял его чувств, все грызлись друг с другом, объединяясь лишь для того, чтобы бойкотировать очередного победителя. Впрочем, продолжалось это недолго. Вскоре Мешков разочаровался в революции, увлекшись постройкой передового ночлежного дома, позднее безжалостно отобранного им у бродяг и переданного под университет. К тому времени его через филантропию, по дороге слегка царапнув об американских духоборов, взявших у него деньги, но Льву Толстому сказавших, что ничего не брали, круто вынесло к идее основать в родном городе первое на Урале высшее учебное заведение. Давать деньги революционерам он перестал, и они не простили ему измены. В одну из непроглядных октябрьских ночей, когда «Олимпия» стояла у причала, на ней взорвалась бомба. Эсер Баренбойм зашвырнул ее в окно хозяйской каюты, но теперь жандармы быстро его поймали. Как выяснилось, санкцию на этот акт дали местные комитеты всех партий, включая те, что являлись принципиальными противниками террора.