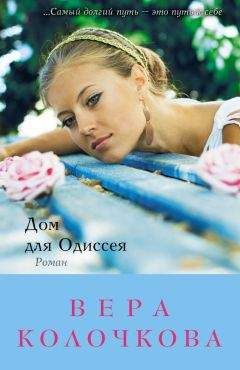Чарльз Паллисер - Непогребенный
– Фрит и Лимбрик убедили окружающих, что убийца, скорее всего, Гамбрилл, – продолжал я.– Оставалась только одна загадка: как попала на свое место мемориальная плита. Лимбрик и мастеровые, работавшие в соборе накануне, уверяли, что в одиночку с ней бы никто не справился. Горожане решили меж собой, что не иначе как Гамбриллу помогал сам дьявол.
– Что ж, это кажется единственным рациональным объяснением, – улыбнулась миссис Локард.– Мне непонятно одно: почему он бежал из города?
– Меня это тоже озадачило, – кивнул доктор Систерсон.– Смерть Бергойна вполне могла сойти за несчастный случай, и если бы Гамбрилл спокойно вернулся домой, никто бы не узнал, что он тут замешан.
– Оставить жену и маленьких детей! – негромко воскликнула миссис Локард, бросая взгляд на спящего у нее на коленях ребенка.– Поступок из ряда вон выходящий.
– Согласен, это странно, – отозвался я.
– Доктор Шелдрик холостяк, вот он об этом и не подумал, – вмешалась миссис Систерсон.
Ее муж хмыкнул:
– А меня так и подмывает сказать, что это дети Гамбрилла и довели.– Мы улыбнулись, и он продолжил: – Кстати, доктор Шелдрик поведал, что стало в дальнейшем с Лимбриком?
– Он взял на себя дела Гамбрилла и стал их вести от имени его вдовы.
– Правда? А вдова и дети – какова их судьба?
– Через несколько лет она обратилась к судебным властям с просьбой признать ее мужа умершим, и после долгих проволочек это было сделано.
– И Лимбрик на ней женился? – спросила миссис Локард.
– Весьма проницательное предположение, если мне позволено будет так сказать. Похоже, что за предыдущие годы она прижила с ним нескольких детей.
– Мне кажется, он сыграл в этой истории решающую роль.
– Возможно ли, – предположил доктор Систерсон, – что Лимбрик под маской миротворца подогревал вражду между Бергойном и Гамбриллом?
– Подозреваете, он сам приложил руку к смерти Бергойна? Не исключено; однако доктор Шелдрик даже не упоминает эту гипотезу среди тех, которые рассматривались, а ведь семья покойного приложила массу усилий, чтобы выяснить истину. Племянник Бергойна, молодой человек по имени Уиллоуби Бергойн, две недели провел в Турчестере, пытаясь до чего-нибудь докопаться. Он знал, разумеется, что его дядя не со всеми в капитуле ладил, но свидетельств, достаточных для обвинения, так и не нашлось.
Мы еще несколько минут строили догадки и предположения, но затем гул соборного колокола напомнил, что час уже очень поздний. Доктор Систерсон спросил, не соглашусь ли я проводить миссис Локард к дому настоятеля, и я, несмотря на ее возражения, с удовольствием взял на себя эту обязанность. Мы вышли на площадь и всю короткую дорогу говорили о докторе Систерсоне, его жене и их очевидном счастье.
Когда мы приближались к дому настоятеля, моя спутница сказала:
– Ваша история каноника Бергойна просто зачаровала меня. В вашем пересказе она ожила. Вы, наверное, замечательный преподаватель.
– Насчет этого не знаю, но я действительно стараюсь оживить прошлое. Мне кажется важным донести до молодежи, что наши предшественники тоже были живыми людьми, со своими страстями и страхами.
– И все же мы не можем быть до конца уверены, что каноник Бергойн обладал такой благородной душой, как утверждает доктор Шелдрик, а заместитель настоятеля Фрит был таким чудовищем?
– Абсолютно уверены – нет. Но если все свидетельства бьют в одну точку, тогда можно говорить о достаточной степени уверенности.
– Не кажется ли вам, что, рассуждая о людях прошлого, мы читаем в них свои собственные желания, ибо мы заблуждающиеся смертные и не способны судить беспристрастно?
– Такая опасность действительно существует. Единственная защита от этого – понимать себя и делать поправку на свою предвзятость.
– Такова, без сомнения, стезя мудрости, – с улыбкой произнесла миссис Локард.– Но ей не так-то легко следовать.
К моей досаде, дом настоятеля был уже рядом. За вечер я сообразил, кого мне напоминает миссис Локард, и, прощаясь, высказал надежду до отъезда увидеться с нею вновь. Пожимая мне руку, она ответила, что тоже на это надеется, и когда зевающая служанка отворила дверь, я поклонился и направился к дому Остина.
СРЕДА, НОЧЬ
Пересекая темную Соборную площадь, я вспоминал о шумной, теплой, пропитанной любовью атмосфере, которую только что покинул, и моя собственная жизнь показалась мне по контрасту очень спокойной. Вокруг не слышалось ни звука, и хоть мне всегда нравилась тишина, нынче она стала приобретать зловещий оттенок. Систерсон, будучи на десять лет моложе меня, охотно взвалил на себя заботы и обязательства, которых я тем или иным путем избежал. Мне подумалось, что из троих знакомых мне каноников он меньше всех забивал себе голову мелочным соперничеством в капитуле.
Дверь дома Остина была у меня перед глазами, но внутрь еще не хотелось, поэтому я решил обойти кругом собор, который напоминал гигантского зверя, сидящего в темной клетке площади. Испытывал ли я злорадство при мысли о том, что Остин ни в одном отношении не сумел благополучно устроить свою жизнь? Мне не досталось семейного счастья, такого как у доктора Систерсона, но по крайней мере у меня есть интересная, уважаемая и хорошо оплачиваемая работа, в то время как мой друг увяз в скучном и гнетущем провинциальном болоте. В противоположность ему я занимался тем, что мне нравилось и чем я всегда хотел заниматься: учил студентов, вел научные исследования и писал книги. Конечно, Остин был прав, утверждая: счастье – это нечто большее, чем отсутствие несчастий. Задумавшись об этом, я допустил, что не могу назвать себя счастливым человеком. Мне пришло в голову, что иным дан талант быть счастливыми, другие же как будто ищут повод чувствовать себя несчастными. Возможно, они просто боятся разочарований. Мне казалось, счастье дается само собой, если не совершаешь неправильных поступков. Я был осторожен и совершил за свою жизнь очень немного ошибок. Но среди них была, конечно, одна крупная, и за нее я продолжал расплачиваться до сих пор.
Как это ни смешно, я не переставал думать о себе как о молодом человеке. Даже в обществе старшекурсников я воображал себя почти что их ровесником, едва-едва старше. Чем это объяснялось: тем, что я по-прежнему считал, будто моя взрослая жизнь пока не началась? Но теперь я внезапно осознал, что мне под пятьдесят и уже слишком поздно. Дальнейшая моя жизнь будет точно такой же, как и последние тридцать лет.
Но, продолжая воображать себя юношей, я иногда задавал себе вопрос: что, если я, в юном возрасте начитавшись книг, почерпнул из них теоретические познания о взрослой жизни и отчасти лишил себя таким образом отрочества и юности? Из-за этого я куда раньше, чем следовало бы, влюбился в свою будущую жену.
Огибая восточный конец собора, я чувствовал себя на пустой площади как призрак. Но обо мне, в отличие от каноника Бергойна, через две сотни лет никто не вспомнит. Даже через пятьдесят. И никто не будет носить мое имя. Что я оставлю после себя? Несколько пыльных книг, которые будут лежать непрочитанными на верхних полках библиотек? Обрывки воспоминаний в головах моих студентов – но с чего бы им меня вспоминать?
Я понял, что, не желая посвящать время и внимание вещам и людям, для меня скучным, я во многом обеднил свою жизнь. Старинные тексты, разночтения или лакуны в исторических свидетельствах, забытые языки – все эти предметы буквально зачаровывали меня, и к тому же – еще одно преимущество, – исчерпав интерес, их можно было тотчас отложить в сторону. Иных страстей я не знал, и за последние двадцать два года своей жизни ни разу не позволил себе увлечься другой женщиной. Находил ли я оправдание в том, что мне нельзя было жениться? Но я знал, что всегда любил себя только в той мере, в какой чувствовал любовь других людей. Мы ценим себя настолько, насколько нас ценят другие, ибо, можно сказать, мы храним себя для других. В таком случае, какие у меня были основания ценить себя? Удовлетворялся ли я сознанием того, что ни о какой любви – или даже семейном счастье – не может быть и речи? Давний печальный опыт запугал меня настолько, что я навсегда отказался от мысли доверить кому бы то ни было свое душевное спокойствие? Быть может (забегу чуть вперед), именно эти, тронувшие глубины моего воображения мысли породили самый беспокойный в моей жизни сон, который привиделся мне в пятницу, в первые утренние часы.
Газ в холле не горел, и я предположил, что Остина все еще нет. Я снял пальто и шляпу, зажег свечу и направился вверх, но на площадке второго этажа меня настиг приветственный оклик из гостиной. Войдя, я застал в комнате почти полную темноту, только тлевшие в камине угли мерцали красным. Остин сидел за столом, перед ним стояли бутылка и два стакана.
– Входи, садись и давай выпьем, – воскликнул он.
– Можно зажечь свечу? – Он кивнул, и я поспешно воспользовался разрешением.