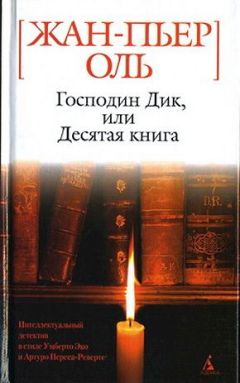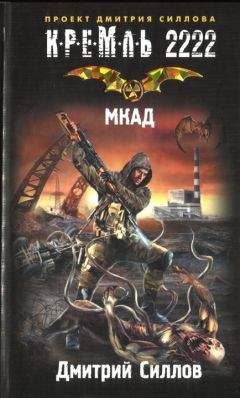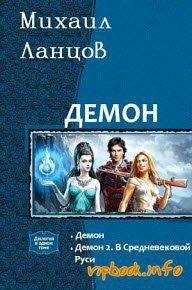Жан-Пьер Оль - Господин Дик, или Десятая книга
— Да-да… он обладает этой чудесной способностью… но на что он употребляет ее? Вы пишете, месье Борель?
Я ограничился тем, что покраснел.
— Если это так, то вы понимаете, что я хочу сказать. Книга должна держаться сама — без подпорок чертовщины, без фокусов… одною силой слов… о слова вечно пытаются выйти из своей роли… Если вы не удержите их властью, силой… они убегут из книги, и ваша работа обратится в ничто! Да, они доблестные воины, но вы должны править железной рукой, иначе — мятеж…
Он вновь подошел к окну. Мы молча смотрели на гирлянды, украсившие огромный дуб. Кто-то установил фотографический аппарат. Морис Дюпен позировал под аплодисменты на вершине лестницы. На губах Флобера появилась странная улыбка.
— Я восхищаюсь, да, я действительно восхищаюсь господином Диккенсом и его мятежной эскадрой… Но я предпочитаю послушные экипажи… и если литература должна привести к кораблекрушению, я хочу сохранить по крайней мере иллюзию того, что боролся до конца! [А сейчас я намерен немедленно уложить чемоданы… Я и минуты не останусь в доме, где украшают шариками дубы!]
* * *Полуденное солнце щедро заливало кабинет в Гэдсхилл-плейс, где я ждал уже более часа. Устав шагать из угла в угол, я снова уселся в кресло и взял другую бумагу со столика.
«The Nation», Нью-Йорк, 21 декабря 1865 года …подобные сцены позволяют определить границы проницательности г-на Диккенса. Слово «проницательность», возможно, чересчур сильное, ибо мы убеждены, что одна из главенствующих особенностей его гения — неспособность проницать взглядом поверхность вещей. Если бы мы рискнули определить его литературную природу, мы назвали бы его величайшим из поверхностных романистов. «Наш общий друг», как нам представляется, — самое посредственное его творение. И посредственность эта — не от скудости временного замешательства, но от скудости окончательного истощения.
Генри Джеймс.Я поднял глаза к окну; над садом курился белый дымок. Вначале я подумал, что просто жгут палую листву, но пахло скорее жженой бумагой.
Неожиданно раздавшийся голос заставил меня вздрогнуть.
VIII
— Привет, пиквикист! — Я снимал трубку, еще не проснувшись, но, выбросив это смешное слово, телефон произвел волшебный эффект лампы Аладдина. — Что новенького за эти три года?
И словно при вспышке молнии, эти три мимизанских года промелькнули перед моими глазами в ускоренной шутовской процессии, напоминавшей какой-то slapstick.[22] От дома — к Нотр-Дамскому коллежу. Оттуда — через «Морской бар» — к супермаркету Плажеко. От Плажеко — к дому.
Я сел, свесив ноги с кровати.
— Ничего. А у тебя?
— Куча всего. Надо встретиться.
— Знаю. Ты теперь большой человек в универе.
— Не валяй дурака! Есть действительно новости.
— И почему нужно сообщать их мне?
Мишель громко захохотал.
— Потому что после меня ты — единственный пиквикист!
Я начинал ощущать мурашки в кончиках пальцев — признак окончания долгого, очень долгого периода онемения. Ощущение могло бы быть приятным, но мне понадобилось три года, чтобы усыпить ту часть меня, которая теперь возвращалась к жизни; я не хотел этого пробуждения.
— Тебе надо приехать в Бордо. Сегодня вечером я жду тебя на Клемансо.
— Сегодня вечером? Я работаю.
— Значит, в субботу. У Крука! Как в старые добрые времена… — И он небрежно прибавил: — Часто о тебе вспоминает. За последние месяцы он немного сдал. Я думаю, если он увидит тебя, ему это в самом деле пойдет на пользу.
Это не был аргумент, имеющий целью убедить меня: Мишель ни секунды не сомневался, что я прибегу на встречу, как верная собачонка. Он просто хотел дать мне достойный повод, он бросал кость моей гордости.
* * *Крук возвел глаза к небу:
— Да, мадам, я вас прекрасно понял… Ваш замечательный друг, господин Демонбрюн… де Монброн горячо рекомендовал вам мой книжный магазин… жаль только, что я никогда не слыхал о таком господине!.. Один из моих лучших клиентов? Черт возьми… А вы уверены, что не путаете меня со скобяной лавкой напротив?
Я нашел, что он вполне в форме, наверное, потому, что после туманного намека Мишеля был готов к худшему. Правда, на лице его появилось с полдюжины новых морщин и лицо стало еще немного краснее, словно поднялись воды в бассейне красной реки. Но этот кармин придавал ему почти праздничный вид. И безусловно, он не согнулся ни на миллиметр и все так же уходил головой под потолок, как бы паря в невесомости, подобно регбисту при вбрасывании, поднятому в воздух товарищами по команде.
Прикрыв одной рукой трубку, другой он указывает мне на заднюю комнату.
— Он уже там, — шепчет Крук, — ждет вас. Избавлюсь от этой божьей кары и присоединюсь к вам!
Если Крук был все таким же большим, то его магазинчик, казалось, съежился до пугающе малых размеров. Этот эффект можно было объяснить какой-то деформацией памяти, но, вероятнее, причина была в существенном увеличении фондов шотландца, в необратимом нарастании осадочных наслоений, принимавших форму вздымающихся сталагмитами шатких стопок и массивных отложений, занимавших все столы, заполнявших полки, захватывавших уже и пол. Книги, везде книги. С лавочкой Крука произошло то же, что случается во всяком торговом деле, когда покупают больше, чем продают: затоваривание.
— А! Вы хотите обрадовать меня каким-то предложением… Это очень мило с вашей стороны, но я не могу по телефону… Хорошо, хорошо, говорите… Клод Фаррер? Анри Батай? У букинистов ими забиты все мусорные баки! Мадам, не все, что старо, уже только поэтому хорошо…
Мишель Манжматен с улыбкой на губах ждал меня в задней комнате, — эту улыбку он, видимо, надел заранее, как только услышал звяканье дверного колокольчика. На сибаритском брюшке Мишеля вспучивалась черная с иголочки тенниска «Lacost». Редкие волосы блестели от геля. Он долго разглядывал меня, а затем указал подбородком на что-то лежавшее на столе.
— Взгляни одним глазком и скажи, что ты об этом думаешь.
— Что это?
— Как видишь, это страница из книги регистрации пассажиров Британских железных дорог на линии Кале — Дувр от двадцать пятого мая тысяча восемьсот семидесятого года…
Фотокопия была посредственная. На ней с трудом можно было различить графы оригинала и заполнявшие их каракули.
— Вот здесь, присмотрись…
Последовав за его указующим перстом, я с большим трудом разобрал несколько имен и адресов: «Г. Марк Дамбрез, негоциант, Лилль, г. Арман Дюмарсей, рантье, Париж, VI округ, г. Эварист Борель, студент, Ноан-Вик…»
— И что?
Манжматен от души хлопнул меня по спине, воскликнув:
— Я так и знал! Я так и знал, что ты станешь изображать скептика… Хорошая попытка, но не прошла. Ты отлично понял!
— Что понял? Что твой Борель приехал в Лондон за несколько дней до смерти Диккенса? И что это доказывает?
— Франсуа, малыш, ты меня разочаровываешь… Ты ведь не думаешь, что я стал бы тебя вытаскивать сюда, если бы не был уверен! Ноан — это тебе ни о чем не говорит?
— Да, очевидно…
— Ну да! Милашка Жорж Санд, урожденная Аврора Дюпен, «дура набитая», по выражению Бодлера… А теперь идем…
Быстро шагая, он притащил меня в магазинный зал и остановился перед длинным рядом томов в желтых переплетах цвета мочи.
— Двадцать пять томов! Двадцать тысяч страниц! Кому, к черту, еще интересна эпистолярная макулатура мамаши Санд? Редактор шею себе на этом свернул. Этот Жорж Любен вообще был псих… но псих организованный. Вот, смотри, указатель занимает целый том… Три тысячи имен в алфавитном порядке с отсылками к пронумерованным письмам. И вот тут обрати внимание на букву «Б»… «Борель, Эжен» — и далее не меньше двадцати пяти отсылок!
— Эжен?
— Ага! Уже зацепило! Эжен Борель, виноторговец, мэр Лашатра, друг детства мадам Санд, отец троих детей: Мари-Жанны-Авроры, Жан-Этьена и… Эвариста!
— …которого в указателе нет…
— Ха-ха! Ты умеешь насмешить… Так потерпевшие кораблекрушение цепляются за мачту! Да, он не поименован… он вошел куда лучше…
Смотрим… смотрим… том двадцать второй, апрель семидесятого — март семьдесят второго, страница пятьсот двадцать восемь… Читай!
Из «Истории жирондистов» Ламартина он устроил себе трон и плюхнулся на него со вздохом удовлетворения. Крук, все еще прикованный к телефону, не отреагировал на святотатство. («Братья Маргерит, мадам? Братья Маргерит… и что вы хотите, чтобы я с ними сделал?»)
— Читай, я тебе говорю!
Ноан, 12 сентября 1870 года Г-ну Бюллозу, редактору «Ревю де Дё Монд»