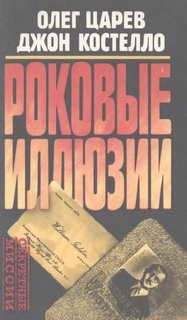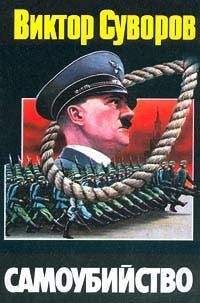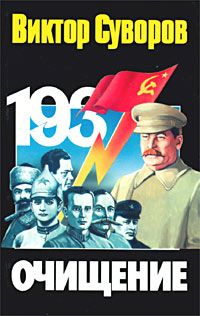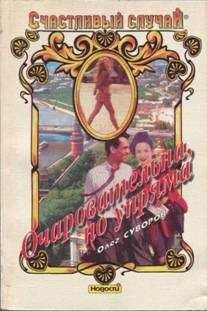Роковые обстоятельства - Суворов Олег Валентинович
— Как это? — в свою очередь удивился следователь. — Разве гувернантка не могла отравить вашего сына из ревности, учитывая длительный характер их отношений?
Как ни странно, но этот вопрос не вызвал у собеседника особого интереса. У Макара Александровича даже мелькнула мысль, что Симонов и сам был неравнодушен к знойным прелестям француженки, а потому и не хотел ей зла. Видя, что следователь терпеливо дожидается его ответа, Павел Константинович неуверенно пожал плечами:
— Вполне допускаю, что и так… Однако не смею судить более определенно.
— Это надо понимать в том смысле, что вы не будете настаивать на ее безусловном осуждении, целиком положившись на решение присяжных? — уточнил Гурский.
— Что мне теперь ее осуждение, когда я за одну только неделю потерял сына и дочь!
Симонов сорвался впервые за весь разговор, произнеся эту фразу с надрывом в голосе и, несколько картинно приложив к глазам платок. Глаза у него и в самом деле были красные, и следователь заметил это сразу же при появлении титулярного советника в его кабинете.
— Ну-с, ладно… — И Макар Александрович, задумчиво выпятив нижнюю губу, побарабанил пальцами по обложке дела «О смерти несовершеннолетнего сына титулярного советника Симонова, последовавшей в результате чрезмерной дозы лекарства», давая собеседнику время успокоиться.
Гурский готовился передавать это дело в суд, придя к выводу о невиновности француженки. По его мнению, смерть гимназиста последовала из-за передозировки лекарства, а сын Симонова обладал слабым здоровьем и часто принимал морфий, свободно хранившийся в их доме. Однако случайной она была или намеренной установить теперь уже вряд ли возможно. Макар Александрович вполне допускал мысль, что нервный и неуравновешенный, по свидетельствам его же собственных товарищей, гимназист в порыве сиюминутного юношеского отчаяния или приступа пессимизма вполне мог покончить с собой «всем назло!» Однако чем был вызван подобный порыв, для следователя оставалось неясным. Горестным осознанием собственной порочности? Издевательствами приятелей, знавших о его связи со стареющей гувернанткой? Разрывом с любимой девушкой? Но кем она была и была ли вообще?
— Если позволите, — после долгой паузы, снова заговорил следователь, — я задам вам еще несколько вопросов касательно второго дела — о самоубийстве вашей дочери.
— Задавайте, — безучастным тоном предложил Симонов, отнимая платок от лица.
— Надежда Павловна застрелилась из вашего собственного револьвера?
— Да, к несчастью.
— Она знала, где он находится?
— Я никогда его не прятал… разве что от Юлия. По всей видимости, когда я спал, Надежда прошла в мой кабинет, взяла револьвер, который лежал на книжной полке, и выбежала из дома. Какая трагедия, что все это было рано утром и никто не смог удержать ее от безумного поступка!
«Странно, — отметил про себя Макар Александрович, с удвоенным вниманием изучая лицо собеседника, — очень странно, что в доме все спали! Младшая дочь не вернулась из театра, однако это не послужило причиной ничьей бессонницы! Неужели студент был в чем-то прав?..»
— Вы можете предположить, почему она пошла на подобный шаг? — спросил он.
— Нет! Не могу! Не знаю! Сам ничего не понимаю! — с неожиданной резкостью выпалил Симонов, причем на этот раз он показался Гурскому настолько искренним, что следователь сразу и безоговорочно в это поверил.
— Хорошо, хорошо, однако у нее могла быть неудачная любовь… Например, с тем же студентом Винокуровым.
— Каким еще студентом? — столь недоуменным тоном поинтересовался титулярный советник, что Макар Александрович счел бессмысленным развивать эту тему, но все же не удержался от вопроса:
— У вашей дочери были поклонники?
— Ах, да, теперь я, кажется, понимаю, кого вы имели в виду… — пренебрежительно пробормотал Павел Константинович, — однажды я видел ее на улице перед домом в компании какого-то долговязого прохвоста в студенческой шинели… Ну, нет, моя Надин не так воспитана и уж никак не могла застрелиться из-за подобного типа!
«Да, скорее бы он из-за нее застрелился», — мысленно согласился следователь.
— Кстати, — заявил Гурский, в очередной раз доставая из ящика стола злополучную брошь и демонстрируя ее Симонову, — как вам известно, эта вещь была при вашей дочери в день смерти, однако если она ей не принадлежала, то по окончании следствия данная драгоценность будет передана на хранение в государственное казначейство…
— Позвольте-ка взглянуть еще раз, — явно заинтересовался чиновник. — Да, кажется, теперь я припоминаю, — весьма уверенно заявил он после внимательного изучения, — именно такую брошь я подарил на свадьбу Катрин. Возможно, она одолжила ее сестре.
— Однако первый раз вы не признали ее своей собственностью!
— Тогда я был слишком подавлен… Кроме того, со дня свадьбы Катрин прошло уже два года, поэтому я вполне мог что-то запамятовать.
— Но ведь и мадам Дешам тоже ее не признала.
— Откуда гувернантке знать все наши семейные драгоценности! — возмутился титулярный советник. — Тем более что она почти не бывала в доме Катрин, поскольку они были явно не в ладах.
Во всем этом имелся определенный резон, однако повторное опознание броши почему-то не обрадовало Макара Александровича, скорее напротив. Он прищелкнул пальцами, после чего всерьез и надолго задумался.
— Хорошо, я распоряжусь запротоколировать ваши показания, — наконец заявил следователь, — но перед этим мне необходимы некоторые уточнения. Если вы, как только что заявили, подарили эту брошь на свадьбу старшей дочери, то должны знать ее стоимость. Кроме того, потрудитесь вспомнить — где она была куплена?
Задавая этот весьма коварный вопрос, Гурский ожидал услышать уклончивый ответ типа «запамятовал», однако, к его разочарованию, титулярный советник без труда назвал примерную стоимость драгоценности, хотя место покупки уточнить отказался, заявив, что покупал брошь не лично, а через посредника. И тогда следователю пришлось задать другой, не очень-то светский вопрос:
— А не слишком ли это дорогой подарок для государственного служащего с годовым окладом, не превышающим десять тысяч рублей?
— Вы меня в чем-то упрекаете или подозреваете? — нахмурился титулярный советник, нервно сцепив пальцы.
— Ни то ни другое, — успокоил его Гурский, — однако мне придется опросить вашу старшую дочь.
— Ради Бога!
— Где, кстати, она проживает?
— Совсем рядом с вашим участком — у Ново-Конюшенного моста. Дом советника Белогривова.
— Ну что ж, в таком случае не смею вас больше задерживать, — сухо заявил Макар Александрович.
Симонов встал и, вежливо поклонившись, с достоинством удалился. Проводив его, следователь повертел брошь в руках и невесело усмехнулся. Ему вдруг вспомнилась недавно полученная взятка — кстати, Симонов нисколько не походил на того господина, что удрал от него в карете, да и странно было бы этого ожидать. Усмешка Гурского была вызвана совсем другим соображением — ему просто пришла мысль, что на «подаренную» сумму, которая, разумеется, тут же была оприходована в установленном законом порядке, он вполне мог бы купить своей возлюбленной не менее ценный подарок.
Макар Александрович очень любил женщин, хотя как это ни странно — при его эффектной внешности и ласковой манере обращения — не пользовался у них особым успехом. Возможно, женщины интуитивно чувствовали врожденную душевную холодность Гурского, заставлявшую его относиться к ним всего лишь как к красивым куклам; или же их отпугивали его опасная вкрадчивость и кошачьи усы. Сейчас Макар Александрович переживал блаженный роман с графиней К. В свое время их свели весьма любопытные обстоятельства…
История эта была столь необычной, что заслуживает отдельного рассказа! Несколько лет назад помещик Новгородской губернии по фамилии Сухарев, чья семейная жизнь сложилась крайне неудачно, был дружески принят в семье другого местного помещика, у которого имелась молодая красивая сестра, только что закончившая Бестужевские курсы. Избранный им способ ухаживания господин Сухарев явно позаимствовал из трагедии «Отелло». Иначе говоря, он постоянно жаловался впечатлительной девушке, которая была моложе его почти на двадцать лет, на свои житейские невзгоды и перенесенные страдания. Все дальнейшее произошло в строгом соответствии с шекспировской пьесой — девушка начала жалеть сладкоречивого страдальца и сама не заметила, как эта жалость перешла в любовь. Однако в плане душевного благородства новгородскому помещику было далеко до венецианского мавра!