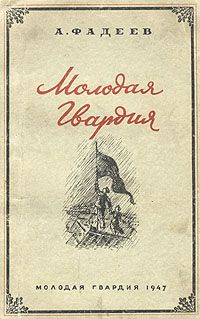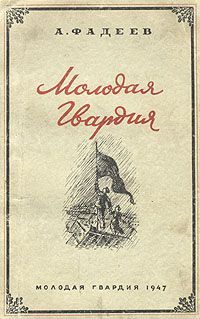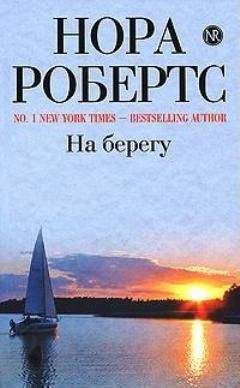Александр Фадеев - «Молодая Гвардия»
Щелкнула щеколда двери из горенки в сенцы, и мать, - он узнал ее по грузной походке, - шаркая босыми ногами по земляному полу, подошла к наружной двери.
- Кто? - спросила она заспанным тревожным голосом.
- Открой, - тихо сказал он.
- Господи боже мой! - тихо, взволнованно сказала мать. Слышно было, как она, волнуясь, не могла нащупать крючок дрожащей рукой. Но вот дверь отворилась.
Сережа переступил порог и, чувствуя в темноте знакомый теплый запах заспанного тела матери, обнял это ее большое родное тело и прижался головой к плечу ее. Некоторое время они так, молча, постояли в сенях, обнявшись.
- Где тебя носило? Мы думали, може, эвакуировался, може, убит. Все уже вернулись, а тебя нет. Хоть бы передал с кем, что с тобой, - ворчливым шопотом заговорила мать.
Несколько недель тому назад Сережка в числе многих подростков и женщин был направлен из Краснодона, как направляли и из других районов области, на рытье окопов и строительство укреплений на подступах к Ворошиловграду. Все краснодонцы вернулись уже неделю тому назад, а Сережка не вернулся и ни с кем не передал, что с ним и где он, - об этом и говорила мать.
- Задержался в Ворошиловграде, - сказал он обычным своим голосом.
- Тише… Деда разбудишь, - сердито сказала мать. Дедом она называла своего мужа, отца Сережки. У них было одиннадцать детей, и уже были внуки в возрасте Сережки. - Он тебе задаст!…
Сережка пропустил это замечание мимо ушей: он знал, что отец уже никогда не задаст ему, Отец, старый забойщик, был разбит почти досмерти сорвавшейся с прицепа груженной углем вагонеткой на Анненском руднике на станции Алмазной. Двужильный старик выжил и после того немало еще поработал на всяких наземных работах, но в последние годы его совсем скрючило. Он еле двигался и даже, когда сидел, подставлял под плечо специально сделанную, с мягкой, обшитой кожей обивкой клюшку, потому что тело его совсем не держала поясница.
- Есть хочешь? - спросила мать.
- Хочу, да сил нет, в сон кидает.
Ступая на цыпочках, Сережка прошел через проходную горенку, в которой храпел отец, в красную горницу, где спали две его старшие сестры - Даша с ребенком полутора лет, - ее муж был на фронте, - и любимая, младшая из сестер, Надя.
Кроме этих сестер, в Краснодоне жила еще отдельно от семьи сестра Феня с детьми; ее муж был на фронте. А остальных детей Гаврилы Петровича и Александры Васильевны жизнь разбросала по всему свету.
Сережка прошел в душную горницу, где спали сестры, добрался до койки, посбрасывал куда попало свою одежду, оставшись в одних трусах, и лег поверх одеяла, не заботясь о том, что он не мылся целую неделю.
Мать, шаркая босыми ногами по земляному полу, вошла в горницу и, нащупав одной рукой его жесткую курчавую голову, другой рукой сунула ему ко рту большую горбушку свежевыпеченного пахучего домашнего хлеба. Он схватил хлеб, быстро поцеловал матери руку и, несмотря на усталость, возбужденно глядя во тьму своими острыми глазами, стал жадно жевать эту чудесную пшеничную горбушку.
Какая необыкновенная была эта девушка на грузовике! А уж характер! А глаза какие!… Но ей он не понравился, это факт. Если бы она знала, что он пережил за эти дни, что он испытал! Если бы можно было поделиться этим хотя бы с одним человеком на свете. Но как хорошо дома, как славно очутиться в своей постели, в обжитой горенке, среди родных и жевать этот пахучий пшеничный хлеб домашней, материнской выпечки! Казалось, только он коснется постели, он уснет, как убитый, и будет спать по меньшей мере двое суток подряд, но уснуть невозможно без того, чтобы хоть кто-нибудь не узнал, что он испытал. Если бы та девчонка со своими косами узнала! Нет, он правильно поступил, ничего не сказав ей. Бог ее знает, чья эта девчонка и что она за такое. Возможно, он расскажет все завтра Степке Сафонову и, кстати, узнает у него, что это за девчонка. Но Степка - болтун. Нет, он расскажет все только Витьке Лукьянченко, если тот не уехал… Но зачем же ждать. До завтра, когда все, решительно все можно рассказать сейчас же сестре Наде!
Сережка бесшумно соскочил с койки и очутился у кровати сестры с этим куском хлеба в руке.
- Надя… Надя… - тихо говорил он, присев на кровать возле сестры и пальцами поталкивая ее в плечо.
- А?… Что?… - испуганно спросила она спросонья,
- Тсс… - он приложил свои немытые пальцы к ее губам.
Но она уже узнала его и, быстро поднявшись, обняла его голыми горячими руками и поцеловала куда-то в ухо.
- Сережка… жив… Милый братик… жив… - шептала она счастливым голосом. Лица ее не видно было, но Сережка представлял себе ее счастливо улыбающееся лицо с маленькими, румяными со сна скулами.
- Надя! Я с самого тринадцатого числа еще не ложился, с самого тринадцатого с утра и до сегодняшнего вечера все в бою, - взволнованно говорил он, жуя в темноте хлеб.
- Ой ты! - шопотом воскликнула Надя, тронув его руку и в нижней сорочке села на постели, поджав под себя ноги.
- Наши все погибли, а я ушел… Еще не все погибликак я уходил, человек пятнадцать было, а полковник говорит: «Уходи, чего тебе пропадать». Сам он был уже весь израненный, и лицо, и руки, и ноги, и спина, весь в бинтах, в крови. «Нам, - говорит, - все равно гибнуть, а тебе зачем?» Я и ушел… А теперь уж, я думаю, никого из них в живых нет.
- Ой ты-ы… - в ужасе прошептала Надя.
- Я, перед тем как уйти, взял саперную лопату, снес с убитых оружие в окопчик, там, за Верхнедуванной, - там два холмика таких и роща слева, место приметное, - снес винтовки, гранаты, револьверы, патроны и все закопал, а потом ушел. Полковник меня поцеловал, говорит: «Запомни, как звать меня, - Сомов, Николай Павлович. Когда, - говорит, - немцы уйдут или ты к нашим попадешь, отпиши в Горьковский военкомат, чтобы сообщили семье и кому следует, что, мол, погиб, с честью…» Я сказал…
Сережка замолчал и некоторое время, сдерживая дыхание, ел мокрый соленый хлеб.
- Ой ты-ы… - всхлипывала Надя.
Да, много, должно быть, пережил ее братик. Она уже не помнила, когда он и плакал, лет с семи, - этакий кремешок.
- Как же ты попал к ним? - спросила она.
- А вот как попал, - сказал он, опять оживившись, и залез с ногами на койку сестры. - Мы еще укрепления кончали, а части из-под Лисичанска отошли, заняли тут оборону. Наши краснодонцы по домам, а я к одному старшему лейтенанту, командиру роты, - прошу зачислить меня. Он говорит: «Без командира полка не могу». Я говорю: посодействуйте. Очень стал просить, тут меня один старшина поддержал. Бойцы смеются, а он - ни в какую. Пока мы тут спорились, начала бить артиллерия немецкая, - я к бойцам в блиндаж. До ночи они меня не отпускали, жалели, а ночью велели уходить, а я отлез от блиндажа и остался лежать за окопом. Утром немцы пошли наступать, я обратно в окоп, взял у убитого бойца винтовку и давай палить, как все. Тут мы несколько суток все отбивали атаки, меня уже никто не прогонял. Потом меня полковник узнал, сказал: «Когда б мы сами не смертники, зачислили бы тебя в часть, да, - говорит, - жалко тебя, тебе еще жить да жить». Потом засмеялся, говорит: «Считай себя вроде за партизана». Так я с ними и отступал почти до самой Верхнедуванной. Я фрицев видел вот как тебя, - сказал он страшно пониженным, свистящим шопотом. - Я двоих сам убил… Может, и больше, а двоих - сам видел, что убил, - сказал он, искривив тонкие губы. - Я их, гадов, буду теперь везде убивать, где ни увижу, помяни мое слово…
Надя знала, что Сережка говорит правду, - и то, что убил двух фрицев и что еще будет убивать их.
- Пропадешь ты, - сказала она со страхом.
- Лучше пропасть, чем ихние сапоги лизать или просто так небо коптить.
- Ай-я-яй, что с нами будет! - с отчаянием сказала Надя, с новой силой представив себе, что ждет их уже завтра, может быть, уже этой ночью. - У нас в госпитале более ста раненых неходячих. С ними и врач остался, Федор Федорович. Вот мы ходим возле них и все трусимся, поубивают их немцы! - с тоской сказала она.
- Надо, чтобы их жители поразбирали. Как же вы так? - взволновался Сережка.
- Жители! Кто сейчас знает, кто чем дышит? У нас на Шанхае вон, говорят, какой-то неизвестный человек прячется у Игната Фомина, а кто его знает, что это за человек? Может, от немцев, все заранее выглядает? Фомин хорошего человека прятать не станет.
Игнат Фомин - один из шахтеров, за свою работу не раз премированный и отмеченный в газетах. Но здесь, в поселке, где жили главным образом люди шахтерского труда, среди которых немало было стахановцев, Игнат Фомин слыл за человека темного и выскочку. Он появился здесь в начале тридцатых годов, когда много неизвестных людей появилось в Краснодоне, как и во всем Донбассе, и построилось на Шанхае. И разные слухи ходили о нем, о Фомине. Об этом и говорила сейчас Надя.
Сережка зевнул. Теперь, когда он все рассказал и доел хлеб, он почувствовал себя окончательно дома, и ему захотелось спать.
- Ложись, Надя…
- А я и не усну теперь.