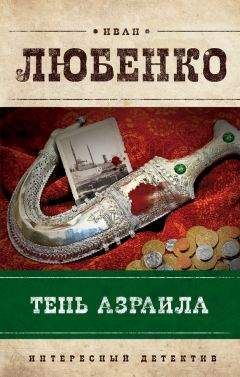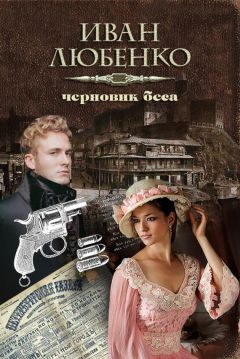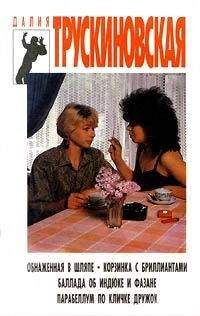Далия Трускиновская - Государевы конюхи
— Судя по тому, что ты его следов в тех столбцах ищешь, человек твой — роду Обнорских.
— Именно так.
— Как про то проведал?
— Вот тут-то и дурь… Добрый человек надоумил.
— Кто таков?
— Не назвался. Однако многое ему ведомо.
— Что же ему такое ведомо, Гаврила Михайлович?
Подьячий замялся.
— Боюсь, осерчаешь…
— Не осерчаю! Ну, скажешь ты наконец?! — нетерпеливо прикрикнул на подьячего Башмаков.
Стенька насторожился. О нем забыли, и он, стоя у дверного проема шорной, незримый для Башмакова, жадно слушал разговор.
— Ведома ему подлинная причина, по коей Обнорских покарали.
— И что же за причина?
— Княжич с сестрой своей согрешил, а старый князь покрывал.
— Так… Что еще твой человек путного сказал? — подумав, спросил Башмаков.
Деревнин был подьячий опытный и по голосу начальства, по малейшим его изменениям, мог судить, благосклонно ли оно или вот-вот грянет гром.
Башмаков метать громы явно не собирался. Более того — хоть и напустил на себя строгий вид, но то, что говорил Деревнин, явно совпадало с какими-то его собственными замыслами и выводами. Поэтому-то подьячий осмелел окончательно.
— А еще, твоя милость, тот человек сказал так: коли удастся докопаться, кто из Разбойного приказа был связан с Обнорским, через кого Обнорский навел Разбойный приказ на ватагу Юрашки Белого, то много чего прояснится и в деле об убиении младенца. Потому что, коли Обнорский вернулся в Москву и злодейства творит, то он непременно должен как-то обезопаситься — а что вернее, нежели свой человечек в Разбойном приказе?
— Ловкий тебе человек попался… Можешь с ним свести?
— Трудновато будет. Да ведь твоя милость и сама, поди, знает, как того человека искать.
— С чего ты взял?
— А тот человек хвалился, будто бы с твоей милостью знаком. Благодетелем своим называл.
— Благодетелем? — Башмакову в голову пришла диковинная мысль. Был он благодетелем, был — да только сам потом клял себя за легковерие!
— А твой ловкий человечек — часом, не девка?
Стенька беззвучно ахнул.
— Девка… — скорбно подтвердил подьячий.
— Ну так радуйся — ты с Настасьей-гудошницей знакомство свел!
В голове у Деревнина тут же развернулась целая картина: Башмаков рассказывает государю про нелепое приключение подьячего Земского приказа с известной налетчицей, государь опаляется гневом, как это с ним частенько случается, и приказывает гнать обалдуя из приказа в три шеи, везти в Пустозерск или еще дальше, с семьей, на простой телеге!
Деревнин рухнул на колени:
— Батюшка, не погуби!
И разом с ним опустился на колени ввергнутый в смятение Стенька. Ведь коли пострадает Деревнин — и ему не уцелеть!
На сей раз он был услышан. Башмаков быстро вышел из шорной, увидел ярыжку и недовольно фыркнул:
— Совсем сдурели! Вставай, Гаврила Михайлович, не грязни порты. И рассказывай внятно — откуда взялась та Настасья, чего хотела!
— Так ведь врала же, блядина дочь! Чего тут рассказывать, одни враки и блядни! — воскликнул, чуть воспряв духом, Деревнин.
— А статочно, и не врала… Я ее знаю. Чужими руками ладит врага погубить — это да. У самой-то видать, руки коротки. Коли на кого другого бы тебя натравила — иное дело. А на Обнорского… У нее с ним свои счеты. Посуди сам — прийти-то на Москву Настасья пришла, а что она тут поделать может? Вот и выследила тебя, Гаврила Михайлович… Хотя, может статься, и вранья подпустила…
Башмаков бы продолжил спокойную и умную речь, но услышал шаги.
Все то время, что он сидел в шорной, кто-то неторопливо ходил по проходу между стойлами, прибирался, разносил ржаную солому на подстилку, и эти обычные конюшенные шумы ухо уже почти не воспринимало. Но быстрые шаги показались странными и даже чуть опасными.
Башмаков, как все уважающие себя мужчины, носил на поясе нож и невольно схватился, разворачиваясь, за черен. Увидел же он отнюдь не врагов — Данила и Богдаш стремительно подошли и уставились на него, словно ожидая продолжения речей.
— Да вставай же! — прикрикнул Башмаков на Деревнина. — Нечего передо мной поклоны бить, я не иконостас! А вы что разлетелись?
Конюхи молчали.
Они сами не знали, как вышло, что оба разом ускорили шаг, приближаясь к шорной.
Деревнин, кряхтя, поднялся. Стенька вскочил на ноги куда шустрее. Ему было смертельно обидно, что Богдан, треклятый совратитель чужих жен, видел его коленопреклоненным в своих владениях — на конюшне. Богдан же, кажется, и не заметил такого Стенькиного позора — он глядел на Башмакова так же ошарашенно, как и Данила.
— Кума твоя, Данила, на Москве объявилась, — сказал Башмаков, уже несколько смягчаясь. — Статочно, будет тебя искать. Ты ее не гони, докопайся, что ей надобно. Сейчас же убирайся с конюшен и из Кремля прочь — Разбойный приказ убежден, что ты Бахтияра заколол. Какого черта ты им показывал джериды?! Так они тебя вдругорядь могут в мешке выкрасть — на дыбе лишь и опомнишься.
Данила опомнился и глянул на дьяка исподлобья, сильно недовольный заслуженным нагоняем.
— Вот что! Ступай к девкам на Неглинку, они тебя спрячут, — продолжал Башмаков. — Богдан, ты его выведи из Кремля и проводи. Так и куме легче будет тебя искать. Эк все запуталось… Я-то думал в Коломенском отдохнуть… Ты же, Гаврила Михайлович, ступай с Богом да потихоньку это дельце о налетчиках расследуй.
— Не дают столбцов, Дементий Минич. Врут, будто мыши погрызли. Я уж изощряюсь — слежу, кто на поставах с оборота росчерк ставил, чей где почерк.
— Сыщи тех, у кого по этому делу сказки отбирали, вдругорядь допроси.
— Так я ж розыск веду, никому не сказавшись, без ведома дьяка. Коли начну приставов за теми людьми посылать — оно и обнаружится. Меня за такие затеи по головке не погладят.
— Исхитрись! А теперь ступайте все. Мне в дорогу пора. И так из-за вас без обеда остался.
— Батюшка Дементий Минич! Я тут рядом живу! Ярыжку пошлю к жене — пока дойдем, тебе такой стол накроют, самому государю впору! — воскликнул Деревнин. — Степа, беги живо! Скажи — пусть все лучшее выставят!
От мысли, что удастся угостить самого дьяка в государевом имени, главу Приказа тайных дел, Деревнин пришел в восторг. Он знал, как принимают подобных гостей — коли вдруг гостю понравится оловянный кубок, или блюдо, или какая диковина, тут же с поклонами дарить. Вроде и не взятка, а лучше всякой взятки. Деревнин же мог угодить и посудой, и красивыми книгами, печатными и рукописными, и даже любимые шахматы не пожалел бы.
Стенька все это прекрасно понял и, быстро поклонившись, кинулся прочь с конюшни.
Башмаков подумал и кивнул.
— Назарий Петрович! Вели кому-нибудь коня моего отвести на двор к Гавриле Михайловичу! — крикнул он. — Ты где живешь-то?
— За Охотным рядом, на Дмитровке, там всякий скажет.
Башмаков и Деревнин ушли. Данила и Богдаш наконец-то взглянули друг на друга.
— Ну, радуйся, пожаловала твоя кума! — сердито сказал Богдаш.
— Я ее сюда не звал, — огрызнулся Данила.
— Собирайся, пойдем на Неглинку. Рубаху чистую возьми, денег побольше — девкам пряники и орехи покупать! Шапку-то куда девал?
— В Разбойном осталась.
— Как же ты без шапки-то? Кума засмеет! А на торгу нам появляться нельзя — увидит кто не надо, Евтихееву донесет, тебя и выследят. Ладно, дам тебе свою старую, чтоб перед кумой тебя не позорить!
Богдаш говорил весело, бойко, и не простое обычное ехидство было в его голосе, а ехидство человека уязвленного.
— Не пойду ни к какой куме, — вдруг сказал Данила. — Иное дело есть.
— Какое?
— Как начнет темнеть, пойду к Водовзводной башне.
— За каким кляпом?
— За посохом. Хочу понять, где покойник свой посох обронил. Когда мы его подняли, посоха поблизости не было.
— Мало ли где, склон крутой.
— То-то и оно. По этому склону и здоровый так просто не проберется, а он — хромой. Коли бы посох выронил, тот бы внизу валялся. А внизу не было.
— Лежит в кустах, поди. Не серди дьяка, Данила, — предостерег Богдаш.
— Он не проведает.
— Мне дьяк велел тебя на Неглинку отвести — я и отведу, — строго возразил Богдаш. — Там кума, чай, заждалась! Баню топит! Пироги печет!
— Да ну ее! — с досадой буркнул Данила. — Мне от ее проказ уж тошно.
Это не было правдой, но и ложью, разумеется, не было. Данила Настасью не понимал. Чего она желала? Чего ждала? Отчего не делала выбора? Вышла бы замуж, убрала свою длинную косу под волосник и убрус, и лишила Данилу причины для беспокойства — значит, более ничего между ними невозможно, и хватит маяться! Он с самой зимы ломал голову, что означал ее взгляд той зимней ночью, когда они вдвоем из-за угла глядели, как влюбленный купец Вонифатий Калашников тайно увозит свою нареченную невесту. И что означали ее слова при их последней встрече, когда она не побоялась прийти в Кремль, чтобы проститься. Он их накрепко запомнил!